
Толкачёв Ю.П.
Что было - то было
Москва 2005 год

 |
Толкачёв Ю.П. Что было - то было Москва 2005 год |
 |
|
-Какой твой любимый город? -Кап. Яр. -А какая твоя любимая песня? -“Прощай любимый город”. Кап. Ярская шутка |
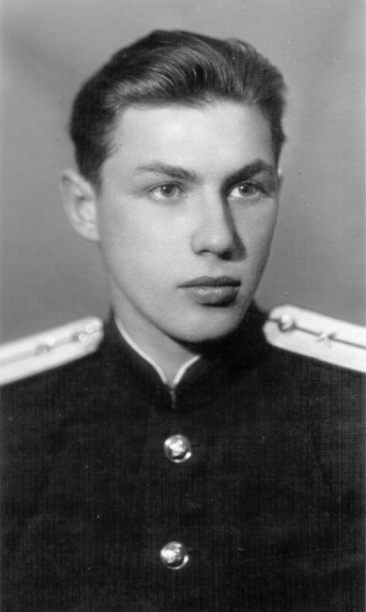
Когда мне предложили написать воспоминания о Спецнаборе, о Кап. Яре, о себе, для сборника, который намереваются выпустить мои коллеги по спецнабору, я поначалу отнесся к этой идее скептически. Кто издаст такую книгу! И, самое главное, кто будет ее читать, кому это будет интересно! Когда пишут мемуары известные артисты, знаменитые учёные, писатели, политики, военноначальники - это многим интересно. Они общались с другими, такими же известными всей стране людьми, могут много рассказать о каких-то малоизвестных фактах, случаях, эпизодах из своей жизни и жизни других знаменитостей. А мы…
Конечно, мы, волею судьбы, были причастны к зарождению и развитию реальной ракетной техники, началу освоения космоса. При этом мы тоже немало общались с людьми, которых, мне кажется, справедливо называть великими. Ведь конструкторы ракетной техники шли буквально в неведомое. Делали такое, что, хотя теоретически и было обосновано, но практически даже трудно было себе представить. Но в то время они были засекречены и мало кому известны. А сейчас, много лет спустя, хотя имена их стали известны, перестали быть секретными ракеты той поры, но кому это все интересно! По-моему, любителей покопаться “в пыли веков” очень мало. Кто, например, интересуется зарождением автомобилестроения, людьми, которые создавали и испытывали первые машины, читает книги о том, как продирались через неизвестное, радовались находкам и страдали от неудач первые конструкторы автотехники. А ведь автомобиль изменил жизнь людей не меньше, чем ракета (по крайней мере, до сегодняшнего дня).
К тому же, роль каждого из нас в масштабах этого гигантского дела, в котором участвовали многие десятки, даже, наверное, сотни тысяч людей, была относительно мизерной. Я не принадлежу к числу современных “бонапартистов” - сторонников Сталина, но его многократно обруганные слова о “винтиках”, по-моему, вполне подходящий образ применительно к этому делу, да и вообще к крупной общественно разделенной работе. Если, конечно, понимать под этим разделение труда, а не отношение к человеку, как к бездушной детали: вышла из строя или не понравилась - выбросил, заменил другой, и ничего не изменилось. И нет никакого дела до чувств этой “детали”, её жизни, судьбы.
С точки зрения выполняемых нами задач мы были именно “винтиками”. Это, конечно, совсем не значит, что наша роль была ничтожной. Как настоящая машина может хорошо работать, только если все её детали работают безукоризненно, так и в такой работе успех - это результат отличной работы каждого участника. А сбои в работе этого самого “винтика” могут приводить к тяжёлым последствиям для всей “машины”. К сожалению, это иногда проявлялось и в истории ракетной техники в виде аварий и катастроф с гибелью многих десятков людей.
Относительная узость задач, которые решал каждый из нас, не принадлежащих к числу крупных военных или гражданских руководителей, не позволит возможному читателю получить из таких как мои воспоминаний масштабную картину истории создания и развития ракетной и космической техники. Если, конечно, не переписать кучу сведений из мемуаров этих руководителей и других источников. Только зачем? Лучше уж читателю обратиться к первоисточникам. Так, вероятно, сведения о какой-то крупной стратегической операции можно получить только от высшего командного состава, который её планировал и проводил, но не от рядового солдата, участника сражений.
Но, с другой стороны, и воспоминания этого солдата могут быть по-своему тоже интересны кому-то. Прежде всего, тому, кого интересуют не только исторические события, но и судьбы людей, которые в них участвовали.
Кроме того, я подумал, что если даже это мало кому будет интересно читать, то, по крайней мере, это интересно писать! Ведь как бы заново проживаешь самый замечательный период своей жизни. Вот и решил я попробовать что-то написать.
Заранее прошу прощения у возможного читателя за то, что в моих записках не будет строгой хронологии, буду рассказывать так, как это вспоминается. Так легче писать, да и интереснее, как мне кажется, читать. Кроме того, мне не хочется излагать все в классическом стиле мемуаров, где все, главным образом, посвящено общественно значимым событиям. То есть, в данном случае, более или менее детально рассказывать о ракетной технике, этапах испытаний, постановлениях правительства, решениях ВПК и т. д. Об этом существует немало различной литературы, от документальных архивов до мемуаров руководителей различного ранга. Мне интереснее рассказывать о том, как все это воспринималось и переживалось обычным человеком, волею судьбы оказавшемся в этом спецнаборе и ставшем инженером испытателем первых образцов ракетной техники.
Спецнабор! О нем, наверное, можно рассказывать бесконечно. Может быть, я слишком субъективно оцениваю, но я думаю, что первый советский ракетный полигон Капустин Яр, таким, каким его знали Ракетные войска - высококвалифицированной авторитетной организацией, на основе которой создавались потом два других полигона, - сделал спецнабор.
Да, были, конечно, и до нас на полигоне грамотные, умные офицеры, о них уже упоминали в своих воспоминаниях мои “соратники” по спецнабору. Но только спецнабор привел на полигон массовое количество молодых, умных, энергичных, прекрасно образованных инженеров. Ведь что такое спецнабор. Из лучших технических ВУЗов страны с последних курсов были взяты наиболее хорошо подготовленные ребята. Потом нас еще чуть больше года доучивали в академии. Поэтому на полигон пришли прекрасные специалисты со свежими знаниями, хорошо изучившие новейшие достижения науки и техники. Наверное, это особенно заметно было у радистов (буду употреблять такое слово для краткости, хотя это немного неправильно: радистами называют специалистов по радиосвязи, а мы были специалистами по радиотехническим системам). Радиоэлектроника в те годы развивалась так стремительно, что знания, полученные в ВУЗах несколько лет назад, быстро устаревали.
И еще вот что очень важно. Хоть у нас в дипломах записано “Военная артиллерийская инженерная академия им. Дзержинского” на самом деле мы были людьми с гражданским образованием. Проучившись 5 лет в институте, а потом год в Академии, я увидел принципиальную разницу в этих видах образования. Институт готовил разработчиков, то есть нам давали глубокие теоретические знания, все возможные технические, схемные решения, даже перспективные, и их сравнительный анализ. В академии же готовили эксплуатационников. Подход совсем другой. Сделано так-то. Знать твердо, чтобы работать на данном оборудовании уверенно, без ошибок. А вот почему сделано именно так, возможны ли другие технические решения - это уже за рамками. Поэтому нам, как инженерам-испытателям, было гораздо легче говорить с инженерами КБ и заводов (“промышленниками” - как их называли на полигоне). Мы были такими же, говорили с ними на одном языке. А поскольку, как я уже говорил, отобрали из институтов совсем не худших, мы могли говорить с ними на равных. И поэтому, как мне кажется, наш вклад в развитие ракетной техники, доведение ее до того высочайшего уровня, которым потом много лет гордилась страна, был очень значительным.
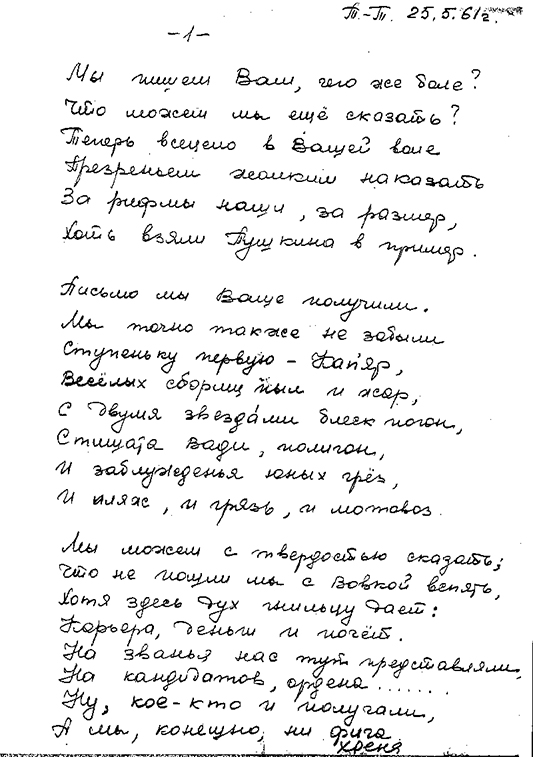 Но была у этой медали и обратная сторона.
Гражданским у нас было не только образование, но и весь дух. Мы были прекрасными
специалистами, но не прекрасными офицерами. Это не значит, что мы были
недисциплинированными разгильдяями, вовсе нет (хотя были среди нас отдельные
такие личности). В основной массе все мы вполне добросовестно соблюдали все
атрибуты военной службы. Но в душе… Нам претили все эти армейские уставные
слова, построения, форма, от которой, как от неприятной шкуры мы немедленно и с
громадным облегчением освобождались, придя домой. Мне кажется это настроение,
даже не настроение, а душевное состояние, хорошо отразилось в письме в стихах,
которое по “поручению трудящихся” я написал в ответ на письмо Краскиных в
Тюра-Там (сейчас более известный как полигон Байконур, хотя Байконур - это
издержки глупого засекречивания той поры). Володя Краскин, мой однокурсник по
академии, один из нас, из нашего студенческого братства, вместе со своей женой с
редким именем - Хиония (в нашем просторечии - Хишка) - уехал на полигон
Тюра-Там. Как формировался состав группы, направляемой из Кап. Яра в Тюра-Там,
я, может быть, расскажу позднее. После нескольких лет службы там Краскины,
которым, видимо, очень нехватало оставшихся в Кап. Яре друзей, прислали нам
письмо в стихах о своей жизни там. Вот начало этого довольно длинного письма:
Но была у этой медали и обратная сторона.
Гражданским у нас было не только образование, но и весь дух. Мы были прекрасными
специалистами, но не прекрасными офицерами. Это не значит, что мы были
недисциплинированными разгильдяями, вовсе нет (хотя были среди нас отдельные
такие личности). В основной массе все мы вполне добросовестно соблюдали все
атрибуты военной службы. Но в душе… Нам претили все эти армейские уставные
слова, построения, форма, от которой, как от неприятной шкуры мы немедленно и с
громадным облегчением освобождались, придя домой. Мне кажется это настроение,
даже не настроение, а душевное состояние, хорошо отразилось в письме в стихах,
которое по “поручению трудящихся” я написал в ответ на письмо Краскиных в
Тюра-Там (сейчас более известный как полигон Байконур, хотя Байконур - это
издержки глупого засекречивания той поры). Володя Краскин, мой однокурсник по
академии, один из нас, из нашего студенческого братства, вместе со своей женой с
редким именем - Хиония (в нашем просторечии - Хишка) - уехал на полигон
Тюра-Там. Как формировался состав группы, направляемой из Кап. Яра в Тюра-Там,
я, может быть, расскажу позднее. После нескольких лет службы там Краскины,
которым, видимо, очень нехватало оставшихся в Кап. Яре друзей, прислали нам
письмо в стихах о своей жизни там. Вот начало этого довольно длинного письма:
Сочиненное мной ответное письмо начиналось так:
|
Здорово, Краскины! Привет! Письмо мы ваше обсудили И рады, что за столько лет Вы пыл души не остудили.
Чтоб не ударить в грязь лицом (ведь бережём мы честь мундира) И мы вам о себе споём На ржавых струнах пыльной лиры.
Мы тоже любим вспоминать Те, всем нам памятные годы, Когда пришлось нам променять Студенческой поры свободу
На “Слушаюсь!”, на сапоги, Ремни, какие только можно, "На «Здравия желаю!» и На асидола запах тошный."
Но тщетен труд был интендантский И командиров всех мастей - Мы были в шкуре лейтенантской Студенты до мозга костей.
Мы вместе жили здесь в глуши, Свои порядки насаждали, А в самой глубине души, Пожалуй, все чего-то ждали.
Но пронеслись за годом год, Как путевые перегоны, И звёзд весёлый хоровод Усеял блеклые погоны, На них по-прежнему просвет, А в жизни, что-то нет и нет… |
Или другой вопль души, уже не мой, а одного из наших - Шурки (как мы его тогда называли) Ваулина. Он сочинил такое, быстро ставшее среди нас популярным стихотворение:
|
Я буду служить и отлично даже, Я выверну себя наизнанку. Но пусть мне сначала сам Жуков скажет: Прослужишь 5 лет и иди в гражданку. |
Жуков тогда был Министром обороны.
Надо, наверное, сказать несколько слов о себе - кто я такой, откуда, собственно, взялся и как попал в этот самый Спецнабор.
Родился я в Москве в 1930 году. До войны успел
закончить три класса. Когда начались первые бомбежки Москвы, я с матерью уехал в
эвакуацию на Урал. В начале1943 года мы вернулись, успев еще застать последние
воздушные тревоги.
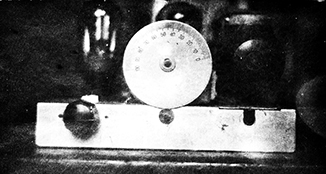 В пятом классе “заразился” радиолюбительством от своего
товарища по школе Аркашки Гердова по кличке “Элемент Аркаше” (по аналогии с
элементом Лекланше). До сих пор помню, как я нес домой как величайшее сокровище
подаренные им две радиолампы СО-118, красивые, зеркальные, мне они казались
почти волшебными. На них я потом собрал свой первый в жизни радиоприемник. Вот
как выглядела моя первая радиолюбительская конструкция.
В пятом классе “заразился” радиолюбительством от своего
товарища по школе Аркашки Гердова по кличке “Элемент Аркаше” (по аналогии с
элементом Лекланше). До сих пор помню, как я нес домой как величайшее сокровище
подаренные им две радиолампы СО-118, красивые, зеркальные, мне они казались
почти волшебными. На них я потом собрал свой первый в жизни радиоприемник. Вот
как выглядела моя первая радиолюбительская конструкция.
Мне это было чрезвычайно интересно. Может быть еще потому, что приемник был в то время экзотикой. Ведь когда началась война, все приемники у населения реквизировали (видимо, чтобы не могли слушать вражескую пропаганду).
Надо сказать, что эта “зараза” осталась у меня надолго, практически, на всю жизнь. Поэтому, когда я кончал школу, у меня не было вопроса - кем быть. Я хотел быть только радиоинженером. Вот, другое дело, в какой институт поступать - это надо было решить.
Сначала я собирался в институт связи. Но потом, когда в школу стали приезжать представители разных институтов и агитировать за поступление в свой институт, получилось так. Приехал однажды представитель Московского института инженеров связи. Это был преподаватель, хмурый, неприятный, недобрый. Ребята (в ту пору было раздельное обучение), как всегда на таких встречах, были немножко возбуждены, шумели. Он делал какие-то грубые замечания по поводу нашего поведения. Словом, произвел очень неприятное впечатление. А потом, однажды, пришел к нам из Московского авиационного института (МАИ), расположенного неподалеку от нашей школы, студент-старшекурсник. Веселый парень со значком спортклуба МАИ. Живо и интересно рассказал нам об институте, разных сторонах его жизни. Пригласил на день открытых дверей. После этого визита, а особенно после дня открытых дверей, у меня уже колебаний не было - только радиотехнический факультет МАИ.
Конечно, надо было еще поступить. Ведь в такие ВУЗы был приличный конкурс. Правда, в глубине души я надеялся получить медаль, с которой поступление происходило вне конкурса. Ведь учился я неплохо - в основном у меня были пятерки, иногда четверки. Экзамены обычно сдавал на 5. А ведь в аттестат зрелости шли только результаты экзаменов, и, соответственно, они же определяли, кто получит медаль. К тому же, тогда фактически все определяло сочинение по литературе, по которому нужно было обязательно иметь пятерку, а по другим предметам для получения серебряной медали можно было иметь до четырех четверок. А у меня-то по сочинениям всегда были пятерки - ошибок не делал, был начитан.
Однако, мои надежды не оправдались. Дело в том, что наша школа, наш класс незадолго до этого “прославились”. Ребята у нас были талантливые, выпускали свой, конечно рукописный, журнал. Об этом как-то стало известно и, как “модно” было в то время (эпоха Сталина), делу придали идеологическую окраску, надо сказать, абсолютно на пустом месте. Никакой идеологии там и близко не было - просто свой, может быть только нам понятный юмор. Но, однако… Поэтому, когда в РОНО представили полтора десятка сочинений из нашего класса (а все пятерочные сочинения утверждались РОНО), нашему директору сказали: “Вы что, с ума сошли! Максимум одно-два. Режьте сами, а то мы все зарежем”. Ну, к сочинению-то всегда придраться можно, это ведь не математика. “Недостаточно раскрыта тема” - и все. Поди, оспорь! Так и я получил четверку, а с ней и лишился медали, несмотря на остальные пятерки.
Было, конечно, обидно, но с точки зрения поступления в институт поправимо. Пришлось сдавать приемные экзамены, но, в общем-то, я был довольно уверен, что конкурс пройду. Правда, эта уверенность меня чуть не погубила. Когда после экзамена по математике из потока поступающих в 250 человек осталось только 87, я посчитал, что все уже позади. Мы знали, что в предыдущем году набор на наш факультет был 200 человек, а нас осталось 87. Недобор! И к оставшимся экзаменам я готовился очень небрежно и недобирал баллы, которые вполне мог набрать. В результате по 6 экзаменам я набрал 24 балла. И вдруг оказалось, что сдает еще второй поток, и, кроме того, набор в этом году вдвое меньше. Вот тут я “завибрировал”. Клял себя за небрежность, но было поздно. К счастью оказалось, что и моих 24 баллов достаточно для поступления. Как я потом заметил, в МАИ вообще была такая политика - безжалостно резали на приемных экзаменах, занижали оценки, но и проходной балл был ниже, чем в других институтах, хотя конкурс даже выше. Многие мои знакомые, не прошедшие в МАИ, потом поступали в другие институты и набирали гораздо больше баллов.
Итак, я - студент. Это были прекрасные годы жизни. Я, как и большинство моих однокурсников, буквально жил в институте. Приходил туда рано утром и уходил поздно вечером домой, только поспать. Лекции, групповые занятия, лабораторки, задания, чертёжка, читалка, спортивная секция, соревнования, клуб МАИ, телевизионный кружок, коллективная радиостанция - всего не перечислишь! Жизнь кипела, а кругом друзья, замечательные ребята (преимущественно ребята - девчонок на курсе из 100 человек было примерно 10), с которыми всегда интересно и весело.
И вот эта-то прекрасная жизнь была грубо оборвана Cпецнабором, правда, когда она и так заканчивалась - на последнем семестре.
Когда я возвращаюсь мыслями к тому, как переломилась тогда моя судьба, я всегда вспоминаю Вениамина Каверина. В моей любимой когда-то книге - “Два капитана” он хорошо сказал о роли случайности в жизни человека. Не помню дословно, но примерно так, что иногда достаточно пройти не по этой улице, а по параллельной, и вся твоя жизнь пойдет другим путем. В моей жизни это очень ярко проявилось несколько раз.
В зимние каникулы перед последним семестром, в январе 1953 года, я собирался ехать в институтский спортлагерь. Но потом почему-то, сейчас уже не помню почему, передумал и остался дома. Через несколько дней вдруг раздался телефонный звонок. Звонила секретарша деканата Лида. Она спросила: “Ты, наверное, удивлен, что я звоню?” Я действительно был удивлен, но не очень - мало ли что понадобилось деканату. Но тут она сказала: “Тебя вызывает ректор института”. Вот тут уж я действительно был удивлен. Ректор такого огромного института как МАИ! Да я и видел то его за пять лет раза два, и то издали, и вдруг он меня вызывает! Зачем? Я не мог придумать ни одной разумной гипотезы, но, как-то интуитивно, не ждал от этого вызова ничего хорошего.
Пришел в назначенное время, и оказалось, что вызвали не только меня, но и еще полтора десятка человек с нашего курса. Стало немного полегче. Быстро выяснилось, что приехала какая-то высокая комиссия, якобы Центрального комитета партии, и будут предлагать нам военную службу. Помню свой разговор с этой комиссией. Мне предложили стать военным инженером. Я сказал, что не хочу.
-Почему?
-Потому, что я хочу быть разработчиком. Я с пятого класса занимаюсь радиолюбительством и хочу заниматься созданием аппаратуры, а не эксплуатацией.
-Ну и что же, вы можете и в армии заниматься разработкой.
В это я, конечно, не поверил и сказал, что я все равно не хочу. Мне сказали, что учтут мое мнение, но попросили все же заполнить анкету. От этого я не мог отказаться – институт-то режимный. Заполнил и в смутном состоянии духа ушел домой.
Между прочим, сейчас, в воспоминаниях своего «однокашника» по спецнабору и Кап. Яру, Славы Васильева, из Ленинградского политехнического института, я прочёл о том, что один из его однокурсников, Володя Свешников, категорически отказался от призыва (видимо, не стал заполнять и анкету). В результате, его (отличника!) исключили из института и из комсомола.
Начался последний семестр. Мы, полтора десятка ребят, побывавших на этой комиссии, пребывали в изрядном смятении. Мы ведь прекрасно понимали, что в нашей стране никто не будет считаться с нашим желанием или нежеланием. Поэтому повис вопрос - призовут нас или оставят в покое. Конечно, ясно было, что просто так это не кончится, но вполне вероятно было, что возьмут не всех. Но кого! Поэтому, когда все наши однокурсники уже закрутились в обычной учебной кутерьме - задания, проекты - мы ничего не делали, у нас было “чемоданное” настроение.
Кстати, за это время выяснилась любопытная деталь. Когда Лида обзванивала облюбованных комиссией ребят, то, если кого-то не оказывалось в Москве - его кандидатура отбрасывалась, и выбирался кто-то другой! Вот тут я много раз клял себя: “ну почему я не поехал в спортлагерь!” И в первый (но не в последний) раз вспомнил Каверина. Правда, теперь, по прошествии стольких лет, я об этом не жалею. Жизнь, как и история, не терпит сослагательного наклонения. Если бы, да кабы. Неизвестно, как сложилась бы жизнь в другом варианте, но о прожитых годах жалеть я не могу.
Прошел почти месяц, и вдруг, в конце февраля, примерно пятерым из нас вручили повестки. Они ушли и пропали. Дня через два еще пятерым. Меня не трогали, и у меня появилась надежда, что с моим отказом все же посчитались. Я решил, что пора браться за учебу, надо было наверстывать упущенное. Я взял на кафедре задание на обязательную НИР и сидел на лекции, просматривая его. Вдруг открылась дверь в аудиторию, и та же секретарша деканата поманила меня пальчиком. Я вышел, и она вручила мне повестку.
У меня еще сохранялась дурацкая надежда, что в военкомате я сумею убедить, что это ошибка, ведь мне обещали учесть мое мнение. Приехал в военкомат. Меня принял какой-то майор. Я подал ему повестку и начал говорить о том, что комиссия обещала учесть…
-Подождите, подождите, - перебил он меня, - Вы Толкачев?
-Да, я.
-Дайте ваш паспорт.
 Я протянул ему паспорт. Он прочитал мою фамилию,
потом надорвал паспорт почти пополам и нанизал его на спицу, вроде той, на
которую в магазине нанизывают чеки (по крайней мере, нанизывали в то время). И я
как-то сразу понял, что все мои жалкие попытки сопротивляться бесполезны.
(Забавно, что много лет спустя в моем личном деле я обнаружил запись:
“Добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил”).
Я протянул ему паспорт. Он прочитал мою фамилию,
потом надорвал паспорт почти пополам и нанизал его на спицу, вроде той, на
которую в магазине нанизывают чеки (по крайней мере, нанизывали в то время). И я
как-то сразу понял, что все мои жалкие попытки сопротивляться бесполезны.
(Забавно, что много лет спустя в моем личном деле я обнаружил запись:
“Добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил”).
Через несколько минут я уже направлялся по указанному во врученном мне предписании адресу: Китайский проезд 9/5. Адресу тогда незнакомому, а потом ставшему таким привычным. Вошёл вот в этот красивый главный вход, и началась моя новая жизнь.
В академии меня направили в комнату общежития № 22. Большая комната, где разместились 100 человек, весь курс радистов. Первое отделение - москвичи, в основном из МАИ и несколько человек из МЭИ, второе отделение - ЛИАП, третье и четвертое - другие институты. Попавшие раньше меня мои друзья встретили меня радостно. Так же мы встретили через пару дней последних наших “новобранцев"-маёвцев. Почему нас забирали такими “квантами” - не знаю, но догадываюсь, что по мере того, как соответствующие “органы” проводили проверку. Последним из МАИ прибыл мой сокурсник Валерий Зинин, прекрасный радиолюбитель, впоследствии выдающийся (без преувеличения) инженер, человек с очень трудной, даже трагической судьбой, сложившейся так “благодаря” его инженерному таланту и кристальной, просто-таки патологической честности, которые оказались несовместимы с существующей административно-бюрократической системой. Но его судьба выходит за рамки этого повествования, тем более, что он после академии попал не в ракетные войска, а в ПВО.
Так началась моя военная служба.
Впрочем, нет. Началась она значительно раньше.
В институте из нас готовили офицеров запаса. В
конце обучения мы сдали Государственные экзамены и получили звание
“техник-лейтенант запаса” (поэтому и в академии мы сразу оказались в этом
звании, только уже без приставки “запаса”).
 А до этого, в ходе военного обучения
мы дважды выезжали в военные лагеря - после второго и после четвертого курсов. После четвертого мы были уже “военными интеллигентами” - без 5 минут лейтенанты,
мы проходили стажировку в должностях инженера полка по радио, в авиационном
полку в маленьком городке Пружаны в Западной Белоруссии. А вот после второго
курса, там же в Западной Белоруссии, в городишке Лунинец, мы были пехотой. Вот
здесь, на этом снимке я в первых в своей жизни погонах (во втором ряду, в
центре).
А до этого, в ходе военного обучения
мы дважды выезжали в военные лагеря - после второго и после четвертого курсов. После четвертого мы были уже “военными интеллигентами” - без 5 минут лейтенанты,
мы проходили стажировку в должностях инженера полка по радио, в авиационном
полку в маленьком городке Пружаны в Западной Белоруссии. А вот после второго
курса, там же в Западной Белоруссии, в городишке Лунинец, мы были пехотой. Вот
здесь, на этом снимке я в первых в своей жизни погонах (во втором ряду, в
центре).
Как нам тогда “давали прикурить” еще с войны служившие сержанты - это отдельная песня. Мы, правда, тоже в долгу не оставались. Но речь не о том.
Однажды был такой эпизод. Мы изучали тему “Взвод в обороне”. Мне и еще десятку, или чуть побольше, ребят повезло - нас направили обозначать наступающего противника. И, пока обливаясь потом, наши друзья окапывались и слушали лекцию командира роты, мы блаженно бездельничали метрах в 200 от них на опушке леса. После войны прошло не так уж много времени, и еще много всякого военного хлама валялось там, где прошла война. Мы нашли пару немецких касок и кому-то пришла в голову “светлая идея” - изобразить наступление пьяных немцев. Надели каски, нацепили на себя всевозможной бутафории, которую только подсказало наше воображение, исходя из окружающих возможностей, и, главное, соорудили танк из живых тел и найденного неподалеку какого-то бака. И когда командир роты крикнул нам, чтобы мы наступали, мы, по-моему, довольно живописно, распевая во всю глотку пьяными голосами песню (почему-то “Барон фон дер пшик”) двинулись в атаку. Ребята в обороне нам еще подыграли: один выполз навстречу танку и бросил под него связку гранат (учебных, конечно). “Танк” картинно прокрутился вокруг “гусеницы” и рухнул. Мы веселились от души. Ожидали, правда, что нас накажут за то, что мы превратили серьезные занятия в комедию. А наказывали нас на тех лагсборах очень часто. Но неожиданно командиру роты этот цирк понравился и нам (наступающим) всем объявили благодарность.
Вот тут впору еще раз (и тоже не в последний) вспомнить Каверина. Много лет спустя, когда вся моя жизнь была сломана призывом на военную службу, я часто думал, пытался понять - по какому же принципу отбирала нас в институте комиссия. Как я уже говорил, в основном, были отобраны ребята, которые хорошо учились. Но было и несколько троечников. Большинство ребят были спортивными, физически развитыми, но были и “слабаки”. С нашего курса взяли, в основном, москвичей. Но были и иногородние ребята, которые жили в общежитии. Словом, я долго не мог выявить какой-нибудь закономерности. И только потом, когда я уже как-то врос в военную службу, постиг ее нехитрые законы, я понял, что отбор велся по туповатому армейскому принципу - брали тех, у кого были хорошие военные характеристики (написанные по результатам лагсборов) и в первую очередь тех, у кого были благодарности. Вот так мне и аукнулся “Барон фон дер пшик”!
Из первых дней в академии мне мало что запомнилось. До принесения присяги нас посадили на карантин и никуда не выпускали за пределы территории академии целых два месяца. Да, собственно, нам и выйти-то было не в чем. Когда мы прибыли, всем выдали полевую форму - гимнастерки, бриджи (тогда еще х/б), сапоги, бушлаты без погон. Было заготовлено много полуфабрикатов офицерской формы, ее подгоняли тем, кому она более или менее подходила, но почему-то все это было на малый рост. Мне, хоть я далеко не великан (178 см.), ничего подходящего не нашлось. В каком-то военном ателье заказали нам шинели и форму (тем, кому не подобрали).
Под утро 5 марта всех разбудил дневальный по комнате. “Сталин умер!” Известие было нельзя сказать, что очень неожиданное, но чрезвычайное. Умер тот царь и бог, под которым мы ходили всю свою, пока не очень долгую жизнь. Не знаю уж, насколько искренней была всеобщая скорбь у нас. Но внешне эта скорбь была проявлена всеми. В те времена не выказать свою скорбь по такому поводу было просто опасно.
Что творилось в Москве на похоронах Сталина уже многократно описано и показано в фильмах. По-моему, нередко даже изрядно преувеличено. Нас бросили в оцепление. Мы были в своих бушлатах и перекрывали улицу тремя цепями. Одна, сцепившись руками, сдерживала толпу. Вторая, так же сцепившись руками, страховала сзади, блокируя то и дело возникающие прорывы. А третья как бы отдыхала. Все цепи периодически менялись. Мы простояли так два дня, а на третий нам сказали, что тех, у кого уже есть форма, поведут в Колонный зал для прощания со Сталиным. А у меня-то ничего нет! Кто-то подал мне идею - спросить лишнюю шинель у кого-нибудь из обычных офицеров, которые учились в академии. Я зашел в какую-то комнату в общежитии, и один из офицеров дал мне номерок гардероба, где висела его вторая шинель. Я радостно помчался в гардероб. На шинели оказались подполковничьи погоны, причем один из них только с одной звездой - но какое это имело значение!
Нас повели строем, причем все было блестяще организовано, это я в полной мере смог оценить уже много лет спустя, побывав на аналогичных мероприятиях и сравнивая организацию. При таком-то столпотворении, когда вся Москва, да даже вся страна, дикими толпами давилась на всех центральных улицах и площадях, нас провели по каким-то улицам без всякой задержки, чуть ли не бегом. После выхода из Колонного зала мы все как-то рассеялись и добирались до академии самостоятельно. И я был изрядно смущен, когда многие встречные офицеры отдавали мне честь, принимая меня в этой шинели за подполковника.
Сидеть невылазно в академии два месяца было не очень-то приятно, хотя свободного времени было мало. Здесь я впервые столкнулся с таким понятием как “самоподготовка”. Я, как все нормальные студенты, привык сам распоряжаться своим временем - когда сидеть над заданиями до глубокой ночи, а когда и заниматься чем-то другим. Здесь же - обязательная самоподготовка. И за непоявление на ней или преждевременный уход наказывали так же, как за прогул лекций или семинаров. Я не бездельник, но эта обязаловка меня очень тяготила.
Из занятий были интересны те дисциплины, которых не было в институте, в особенности теория вероятностей. По нашей же основной специальности, радиотехнике, мы ничего нового не узнали. Изучили, конечно, конкретные системы, которые существовали тогда в зарождающейся области радиотехники для ракет (систему радиоконтроля траектории - РКТ, систему телеметрических измерений - СТК и систему боковой радиокоррекции - БРК), но общетеоретические вопросы преподносились много слабее. чем в институте, где нам читали такие корифеи как Нейман, Гоноровский, Алексеев, Сайбель, Высоцкий, Гитис, Пестряков, Белоусов и другие. В академии мы иногда даже забавлялись, задавая на лекциях по теоретической радиотехнике каверзные вопросы преподавателям и “сажая их в лужу”. Впрочем, без особого энтузиазма.
Неприятными были занятия по марксизму-ленинизму. Я как-то никогда не любил эту науку. Логичен и даже как бы математически выверен в ней один раздел - политэкономия капитализма. Но вот уже политэкономия социализма, история партии - тут я логики найти не мог никогда. А этим наукам придавалось важнейшее значение, даже больше, чем специальности. Тройка по специальному предмету - это было ещё допустимо. Но тройка по марксизму - это ЧП. И начальник курса “замордует”, и на комсомольском собрании будут “прорабатывать”. В институте тоже было подобное отношение, но там это было не так резко выражено.
Особенно мне не нравилось, что к каждому занятию требовалось конспектировать “первоисточники” - работы Ленина, Сталина, Маркса. Я обычно этого не делал, и как-то это сходило мне с рук. Но однажды начальник курса, подполковник Лашманов, потребовал, чтобы мы завтра принесли все конспекты за год ему на проверку. А у меня-то почти ничего нет! Нависла угроза грандиозного скандала. И я придумал такой выход.
Ещё в школе я начал самостоятельно изучать стенографию. Думал, что она пригодится мне в институте. Оказалось, что там она не нужна. Во-первых, потому, что лекторы не рассчитывают на то, что студенты умеют стенографировать, а во-вторых, как оказалось, и не требуется записывать много слов, больше - формулы. К тому же, стенографические конспекты всё же труднее читать. Поэтому я ей не пользовался. Вернее, изредка пользовался, но для других целей - как шифром, когда хотел, чтобы кто-то другой не мог прочесть мою запись.
А в этой трудной ситуации я решил использовать стенографию. Я чуть ли не всю ночь делал очень краткие выписки из нужных работ стенографическим письмом. Оно очень размашистое и я без особого труда исписал большую сто листовую тетрадь. Человеку, не знающему стенографию, трудно оценить, насколько подробны такие конспекты.
На следующий день, когда Лашманов собирал конспекты, я с невинным видом спросил, нужно ли мне сдавать, так как я их стенографирую. Но Лашманов спокойно сказал:
- Ничего, сдавайте, я прочту.
Когда через несколько дней он возвратил тетради, он ничего мне не сказал. Я так и не знаю, прочёл ли он, но, учитывая его характер, могу предположить, что он кого-то попросил прочесть хотя бы фрагменты. Но там ведь действительно были кусочки из заданных работ, так что криминала он найти не мог.
Любопытно, конечно, было изучать ракету. Мы изучали “единичку” - ракету Р1. Конструкция была полностью скопирована с немецкой ракеты ФАУ-2. Настолько, что когда я жил уже дома, то, чтобы не сидеть в читальном зале с секретными описаниями, я готовился дома по книжке с описанием ФАУ-2, которая свободно продавалась тогда, и где были подробно описаны конструкция и схемы автоматики ракеты.
Пока мы сидели в академии “на карантине”, единственным методом вырываться оттуда была баня. Периодически нас везли в баню, и мы, приехав туда, ухитрялись как-то договариваться с сопровождающим, что соберемся у бани снова в такое-то время и вместо бани разбегались кто куда.
Конечно, мы быстро сдружились. Особенно тесно - внутри отделений. Это понятно, ведь внутри отделений люди были, как правило, из одного института и давно друг друга знали. Просто жизнь поставила в рамки более тесного общения. И было много общих проблем и интересов. В нашем отделении большинство было из МАИ, но и ребята из МЭИ легко “вписались” в наш коллектив - тот же дух, та же школа, те же настроения. Мы прекрасно понимали друг друга, хотя иногда и поддразнивали. Мы называли их монтерами (институт-то энергетический), они нас - вентиляторами. Например, когда мы из академии ехали на практику в Ульяновск, для одного из них, Рэма Прудковского, в поезде я сочинил такую “дразнилку”:
|
Стон монтера
Луна светила в полнакала (сгорела фаза где-нибудь), А звезд стоваттных не хватало, Чтоб осветить хоть млечный путь.
Одна звезда перегорела, Одна мигает - плох контакт, Да мне до них какое дело - Пусть сами чинят, я ведь так…
Навстречу мне людей потоки Как электроны мчат толпясь. Куда текут людские токи? Ведь негде лампочке упасть!
А я все сдал, хожу без дела И потерял и цель, и нить. Эх, хоть бы пробка где сгорела, Да мне бы дали починить!
И вдруг коротким замыканьем Мне душу страшно обожгло, По нервам переменным током Волненье в сердце потекло.
Как будто мощный кипятильник Мне кто-то прямо в грудь занес, И электромоторчик сердца Пошел отчаянно вразнос! Навстречу мне идет красотка, Походка как асбест легка. На ней изящная оплетка, Чулки из непроводника.
Её трёхфазная прическа Любого сразу бросит в дрожь. Такую сложную проводку Пожалуй, лучше и не трожь!
Мой взгляд был сразу закорочен, А вместо сердца - сноп огня! Но равнодушно, словно счетчик. Она взглянула на меня.
Клянусь самим законом Ома И элементом Лекланше - С тех пор ни на столбе, ни дома Покоя нет моей душе! |
Впрочем, Рэм на меня за это не обиделся, наоборот, ему понравилось.
Наверное, я должен объяснить вкрапления стихов в этот текст. Я никогда не вёл дневников и, в какой-то степени, роль дневника выполняли для меня стихи, которые я иногда писал “для внутреннего употребления” по какому-нибудь случаю или просто под настроение. Об этом я, кстати, тоже однажды написал:
|
Свои стихи порой перечитаешь И кажутся плохими стиль и слог, Но память прежних дней вдруг, как живая, Встает и с самых неудачных строк.
И, если так случится, что вот это Когда-то кто-то может быть прочтет, Пусть он меня не судит, как поэта, И пусть за графомана не сочтет
Поэзией я это не считаю, Яд самомненья в душу не проник. Тогда зачем пишу? Зачем читаю? Такой уж просто у меня дневник. |
Дневник же, естественно, очень полезен при таком занятии, как воспоминания. К тому же, мне кажется, что стихи наиболее точно и выразительно передают если не факты и события, то настроение и впечатления, вызванные ими. Поэтому, я прошу прощения, но, вероятно и дальше буду цитировать сам себя.
А с Рэмом Прудковским дружба у меня сохранилась на долгие годы, несмотря на то, что я на 10 лет уехал из Москвы, а он остался в подмосковном институте - НИИ-4, в Болшево. Мы часто встречались, иногда даже вместе ездили в отпуск. То в Терскол, кататься на горных лыжах, то на Онежское озеро, в поход на его яхте.
Интересно происхождение его имени. Он родом из Воронежа. Его отец, если не ошибаюсь, был секретарем союза писателей в Воронеже. Он был, видимо, довольно романтичным человеком, и, отдавая дань рыцарской романтике, назвал своих двух сыновей Рэмир и Гаральд.
Рэм - интересный, увлекающийся человек. Занимался подводным плаванием с аквалангом, причем еще в те времена, когда это было труднодоступно, оборудование купить было невозможно и нужно было все делать самому. Потом увлекся яхтой. Получил звание яхтенного капитана, позволяющее плавать в неограниченном районе мирового океана (что, впрочем, в советские времена выглядело как насмешка над реальным положением вещей, особенно при его допуске к секретным работам и документам). Очень любит путешествовать, посещать новые места. Однажды, когда я собирался в пятый или в шестой раз поехать на море в Гагру, где мне очень нравилось, он мне сказал: “А тебе не жалко столько раз ездить в одно и то же место, когда есть столько мест, где ты еще ни разу не был?” Сейчас, вероятно, он бы объехал весь мир, но, к сожалению, у него серьезные проблемы со здоровьем. Еще в молодости он перенес тяжелую операцию на спинном мозге. Возможно другой бы на его месте всю оставшуюся жизнь берёгся и чувствовал себя полу инвалидом, но Рэм, как видите, не “другой”. Однако, болезнь, временно отступая под напором его темперамента и разносторонних интересов, все же постепенно берет свое, да еще и возраст.
Но вернёмся в академию.
Потом была присяга, у всех уже была форма, и мы стали полноценными офицерами-слушателями академии. Жить можно было где угодно, и многие наши иногородние ребята (особенно женатые - правда, их было очень мало) снимали в городе комнаты. Я, конечно, стал жить дома, но некоторое время сохранял за собой койку в общежитии - удобно было, иногда припозднившись, иметь возможность заночевать в центре Москвы, ведь я-то жил на окраине. Правда, окраина - это по тем временам, а сейчас это хоть и не центр, но старый обжитый район - у метро “Щукинская” (которого тогда, конечно, ещё не было). Потом от койки в общежитии вынужден был отказаться, так как регулярно получал выволочки за плохо заправленную койку, а я ведь заглядывал в общежитие редко.
Говорили, что наш Спецнабор принес академии больше “ЧП” (чрезвычайных происшествий), чем она знала за всю свою историю. В это можно поверить, и тому было немало причин. Ведь было грубое вмешательство в жизнь многих сотен молодых ребят. Рухнули все их планы на свое будущее, мечты. К тому же, они оказались оторванными от своих семей, друзей, любимых, от родных мест. Естественно, что многие были в некоторой растерянности и смятении. И, как это принято на Руси, заливали все это водкой. Этому еще благоприятствовало то, что после студенческой нищеты мы, вдруг, оказались довольно состоятельными людьми. Если студенческая стипендия в ту пору была не больше 300-400 рублей, то здесь мы сразу стали получать 1450 рублей, так что на выпивку хватало. Поэтому большинство нарушений составляла пьянка. Помню стандартную речь начальника курса подполковника Лашманова при разборе очередного ЧП: “…зашли в пельменную на проезде Серова, напились босяцкими методами водки с пивом, а дальше путь известный - милиция, комендатура, дежурный по академии”.
Но были ЧП и посерьёзнее. Кто-то, перелезая через металлический забор в пьяном виде, проткнул живот металлической пикой забора и так и повис на ней. Такое вот харакири. А на нашем небольшом курсе радистов вдруг исчез Эрик Чупин (по-моему, из ЛИАП). Было подозрение, что он где-то пьянствует. У нас на курсе было создано несколько групп, которые ходили по московским ресторанам и искали его. Но не нашли. А потом оказалось, что он действительно несколько дней пьянствовал, а потом повесился в Раменском. Как его туда занесло, что толкнуло его на самоубийство - уж и не знаю. Было расследование. Слышал, что при нём нашли записную книжку, где были какие-то записи о его последних днях, но всё это от нас скрывалось.
Хочу рассказать об одном интересном случае из той поры. Однажды, после занятий я ехал домой. Станции метро Китай-город тогда не было, и я ходил пешком от Китайского проезда до станции Площадь Свердлова (ныне Театральная). Вошёл в вестибюль, и вдруг ко мне подошла симпатичная молодая женщина. С тысячью извинений она обратилась ко мне и попросила двести рублей. Объяснила, что муж её тоже офицер, она приехала к нему, но не застала его - он уехал в лагеря. А у неё теперь нет денег даже чтобы купить билет обратно домой. Говорила она очень вежливо и культурно, непрерывно извиняясь, говоря примерно такие слова: “только если это для Вас затруднительно - ради бога не надо” и т.д. Двести рублей - по тем временам сумма немалая. Студенческая стипендия была 300 рублей, на которую многие жили целый месяц. Причем, она даже не обещала вернуть, не спрашивала адрес, чтобы выслать деньги. Но я был полон юношеского романтизма, считал, что такой и должна быть взаимовыручка офицеров, и, ни секунды не сомневаясь, полез в карман. У меня оказалось всего около 150 рублей. Я отдал ей деньги, и ещё, помню, мне было стыдно, боялся, что она подумает, что я пожалел деньги и не дал ей все 200. Прошло недели две. Однажды я зачем-то подошёл к группе наших ребят в курилке. И вдруг слышу, как один из них рассказывает такую же историю. Я не успел и рта раскрыть, как другой говорит:
-Постой! В вестибюле станции Площадь Свердлова?
-Да.
-А девушка такая-то? (описал)
-Да.
-Так и я ей дней 5 назад дал 200 рублей!
Тут же выяснилось, что и ещё кто-то из присутствующих попался на тот же крючок. Я уж промолчал. Но ощущение было поганое. Как будто кто-то меня в дерьме вывозил. После этой аферистки я всю жизнь подозреваю в побирающихся под различными предлогами людей просто жуликов.
А учёба шла своим чередом. Неизгладимое впечатление произвела летняя стажировка в Кап. Яре. Техническая и стартовая позиции, ракеты - все это, конечно, было очень интересно, но как-то сгладилось, поблекло после многих лет службы на полигоне. Но жара! Даже после 10 лет службы там и по прошествии стольких лет я не забыл эти ужасные ощущения при моей первой встрече с такой жарой. Температура держалась в районе 43 градусов в тени. Но тени-то нет! Так что это чисто абстрактная категория. А на солнце! Ситуация усугублялась тем, что жили мы в этой раскаленной, как будто до бела, степи в палатках. В них летом и в нашем-то климате жарко, а уж там! Эта дикая жара действовала на меня даже психологически. Ведь когда мерзнешь - подсознательно всегда понимаешь, что это временно. Вот я сейчас войду в помещение, и там будет тепло, нормально. А здесь - ни секунды передышки. И если мне, например, от жары станет плохо, то никто ничего не сможет сделать, перенести меня в какую-то прохладу просто невозможно (о бытовых кондиционерах тогда никто и не слыхивал, я, по крайней мере). Помню ощущение жуткого разочарования, когда нас однажды повели купаться. Мы шли по этой адской жаре, и я предвкушал, что вот сейчас войду в воду и наступит блаженная прохлада, я хоть несколько минут отдохну от этой адовой пытки жарой. Но привели нас на речку Подстёпка, видимо потому, что она близко, а до Ахтубы километра 4. Мы с лихорадочной быстротой разделись и бросились в речку, предвкушая блаженство. А вода горячая! В этой Подстёпке, когда мы потом служили в Кап. Яре, никогда никто не купался - маленькая мелководная речонка. А в Ахтубе, конечно, даже в жару купаться приятно, вода не перегревается.
Не удивительно, что очутившись в этом пекле, многие из нас болели. Постоянно хотелось пить, но питье не приносило облегчения, казалось, что все выпитое тут же выступает потом на гимнастерке. А пить хотелось еще больше. Вода противно теплая и далеко не стерильная. Естественно, нас здорово косила свирепствующая в тех благословенных местах дизентерия. Не миновала она и меня. Помню то ужасное самочувствие и страшную слабость. Бреду в тапочках из госпитальной палатки в туалет. На дороге грязная зловонная лужа. Обойти ее - лишние три метра. Но у меня нет сил и на эти три метра и бреду прямиком по луже.
Дизентерия вообще одно из главных проклятий этого края. С началом жары мгновенно переполняются дизентерийные бараки госпиталя. Врач эпидемиолог Кац - очень известная и популярная фигура на полигоне. “И вот, зачислен рядовым в бесчисленные роты Каца” - это из нашей жизни. Пить можно только кипяченую воду и только в кипяченой воде купать маленьких детей. Иначе можно подхватить дизентерию, да порой не простую, а какую-то амебную.
Во время нашей службы нас постоянно проверяли на дизентерию. На площадку (техническую позицию) приходил вагон, и всем делали “телевизор” - так это у нас называлось. У медиков это, по-моему, называется ректороманоскопия. Многие старались избежать этой неприятной процедуры, но это было нелегко.
До сих пор благодарен одному врачу (не помню его фамилии) который научил меня замечательно простому и очень надежному способу защиты от дизентерии. Он объяснил, что нормальный желудочный сок вполне справляется с попавшими в желудок дизентерийными палочками. Беда в том, что в жару люди много пьют, концентрация желудочного сока падает, и он не в состоянии справиться с инфекцией. Поэтому нужно после еды напиться, выпить сколько хочется. Это не опасно, потому что во время еды выбрасывается очень много желудочного сока, и концентрация его сильно не упадет. И до следующей еды не пить ни капли, как бы ни хотелось. После еды опять напиться. Я стал применять это на практике. В первое время очень трудно было удержаться, чтобы не пить от еды до еды, но быстро привык, и пить уже и не хотелось. Стал чувствовать себя гораздо лучше и за 10 лет службы в Кап. Яре дизентерией ни разу не болел.
Кстати, упомянутое мной купание детей в городке во время нашей службы было непростой проблемой. Во-первых, нужна вода, а она бывает только ночью, днем вся уходит на полив деревьев. Но на это грех жаловаться, потому что деревья хоть немного скрашивают нашу жизнь в раскаленной степи. К тому же, это в основном белые акации, и когда они весной цветут и еще нет сильной жары - городок вообще райское место. За ночь наполняется водой дровяная колонка в ванной. Теперь воду надо вскипятить. Задача тоже непростая. На чем вскипятить пару ведер воды? Вершиной нагревательной техники за время моей службы там был керогаз, и тот появился не сразу, а где-нибудь так году в пятьдесят девятом - шестидесятом. Поэтому процесс “вскипячения” долгий. Но летом еще более долгий процесс - остудить потом воду до нужной для купания ребенка температуры. До требуемых по науке тридцати шести градусов, конечно, не охладить - какие тридцать шесть, когда температура воздуха выше, но до какой-то приемлемой величины можно, если, конечно, начать этот процесс с самого утра.
И еще - природа как будто испытывала нас. За 10 лет моей жизни в Кап. Яре не было более жаркого лета, чем в 1953 и в 1954 годах, наших первых годах на полигоне. В 1954 году несколько человек умерло от тепловых ударов. Чаще всего это были солдаты, которые стояли на постах на улице. Но не только. Например, незадолго до нашего прибытия умер от теплового удара начальник лаборатории, в которую я был назначен после академии, полковник. Потом, когда мы как-то все же адаптировались, мне переносить жару стало легче, да и жили мы в городке, в каменных домах, там все же полегче. Но уже и жары такой сумасшедшей не было. Конечно, жарко было всегда. Нередко переваливало и за 40. Но чтобы так всё лето без передышки - такого не было. Может быть повлияло то, что построили Волгоградскую ГЭС с большим водохранилищем?
Впрочем, жара всегда была для меня главным бичом службы в Кап. Яре. На службу мы обычно ходили в полевой форме, которая к тому времени, к нашему несчастью, хотя и сохранила в быту историческое название “х/б”, на самом деле стала шерстяной. И вот, нетрудно себе представить, - в такую-то жару в шерстяной гимнастерке с глухим стоячим воротником, в бриджах, в сапогах, в фуражке. Да еще, это наше “х/б” было из такой грубой шерсти, которая, тут же пропитавшись потом, страшно царапала и раздражала кожу. Поэтому я под нее еще вынужден был поддевать футболку. А КУНГи спецмашин, где мы часто работали, накалялись не только от солнца, при постоянно безоблачном Кап. Ярском небе, но и еще от мощной радиоаппаратуры, размещенной там. Обычно, градусники на стене показывали 70 градусов, несмотря на настежь открытую дверь.
Но и повседневная форма была ненамного лучше - толстый шерстяной глухой закрытый китель со стоячим воротником. Поэтому, когда несколько лет спустя ввели новую повседневную форму, это было счастьем. Открытый китель, под ним рубашка с галстуком. Да еще стало можно ходить без кителя, в одной рубашке, получившей народное название “разгильдяйка”. Нашу радость и нетерпение побыстрее получить заветные разгильдяйки, которые, конечно, по обычным интендантским каналам мы получили бы не скоро, можно понять из письма, которое я, Геннадий Гусев и Александр Герасимов написали в Кронштадт Юрию Смирнову, который как раз в ту пору уехал туда в отпуск.
|
Здорово, друг, Смирнов-Кронштадтский! Ты там костюмчик носишь штатский, А здесь - ужасная жара! Настала трудная пора.
И вот мы, обливаясь потом И утирая пыль с лица, Горя под солнцем на работах, Тебя мы просим, подлеца:
Влезь на минутку в нашу шкуру, Хотя бы мысленно пока, И ты поймёшь, наверняка, Проделав эту процедуру,
Хоть ты и очень далеко, Что жить нам стало нелегко. А потому к тебе взываем (и тут же деньги высылаем).
Купи на них нам “разгильдяйки” Со всем к ним прочим барахлом Три штуки надо нашей шайке, Размеры тоже тебе шлём:
Две штуки нам второго роста, А третью - третьего бери. С воротниками очень просто - Сороковые нам все три.
Ещё хотим сказать мы вот что: Приезд твой ждать нам здесь невмочь, И, чтоб быстрее нам помочь, Немедля шли товар по почте.
На этом мы письмо кончаем, За ним и деньги отправляем, Всего три сотни - не вагон, И пожеланий миллион.
Ты отпуск проводи со вкусом, Не напивайся, будь здоров, С приветом остаёмся Гусев, Герасимов и Толкачёв. |
После той стажировки Кап. Яр стал для нас изрядным пугалом. Правда, я как-то не думал, что туда попаду, не знаю уж почему.
Между тем приближался выпуск. Учился я неплохо. Средний балл (впервые я с этим понятием встретился в академии, в институте такого не было) у меня был в районе 4,7-4,8. Просматривался диплом с отличием, который я и получил. Вероятно поэтому начальник курса подполковник Лашманов предложил мне после окончания академии остаться в академии на кафедре. Но я сразу же отказался. Мне казалось, что это как-то неправильно: учился - учился 16 лет и, ни дня не поработав, не приобретя никакой практики, никакого опыта, начинать учить других.
До окончания академии оставались считанные дни. И вот, в один из этих дней, я опять прошел по Каверинской “параллельной улице”.
Дело было так. Мы сидели в академии, заканчивали работу над курсовым проектом, который для нас играл роль дипломного. Было около 6 вечера. Вдруг вошел начальник курса подполковник Лашманов и сказал, что приехала комиссия, и наше первое отделение приглашают на распределение. Он же сообщил, что в составе комиссии представители полигона Капустин Яр, которые будут отбирать себе специалистов.
Я уже говорил, какое впечатление у нас осталось от Кап. Яра, поэтому легко понять, что энтузиазма это сообщение не вызвало. Поскольку никто не рвался идти первым, Лашманов предложил идти по алфавиту. Первым пошел Блистанов Юрий. Его возражения не были приняты. Назначение в Кап. Яр. Вторым Беспалов Геннадий. То же самое. Настроение у всех подавленное, и желающих идти на комиссию нет.
А у меня в этот день с моей будущей женой назначена встреча в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Я купил билеты на балет “Лебединое озеро”, и мы договорились, что встретимся прямо в театре. На первый акт я уже опоздал и беспокоюсь, что она там, наверное, уж не знает, что и думать (мобильных телефонов, легко решающих подобные проблемы, тогда ещё не было, они появились лишь лет через сорок). А тут комиссия. Ждать своей очереди по алфавиту долго, а ведь все равно этой неприятности не избежать. И я вызвался идти на комиссию вне очереди. Ребята меня с радостью пропустили.
Разговор на комиссии состоялся такой. В ответ на предложение служить в Кап. Яре я сказал, что не хочу, и что, когда меня призывали, мне говорили, что я смогу заниматься разработкой аппаратуры. Кто-то из состава комиссии мне сказал: ”Ну, это вы так говорите, а сами, видимо, просто из Москвы не хотите уезжать”. На это я сказал, что присутствующий здесь начальник курса может подтвердить, что мне предлагали остаться в академии, но я отказался именно потому, что хочу заниматься разработкой. Этот член комиссии, пристально глядя на меня, спросил: “А на разработку вы готовы поехать в любую точку Советского Союза?” Я, ни секунды не задумываясь, ответил: “В любую”. Успев при этом подумать, что разработки в очень уж “любой” точке Советского Союза не бывает. “Хорошо, идите”. Я и пошел. Пошел в театр, где “обрадовал” свою будущую жену нашим будущим местом жительства. Потом оказалось, что в этот день на мне распределение кончилось, а на следующий день прибыло много представителей заказывающих управлений и других организаций и, поскольку требовалось немало специалистов в Москве и Подмосковье, а квартира и прописка были тогда большой проблемой, то все москвичи были нарасхват, и больше из нашего первого отделения никто из Москвы не уехал. Поэтому я всегда потом говорил, что попал в Кап. Яр из-за Лебединого озера.
Итак, долгие годы учебы и завершающий ее этап, академия, позади. А впереди последний июнь в Москве. Отпуск. На руках предписание - прибыть в в/ч 15644 13 июля 1954 года.
Назначен я на должность старшего инженера-испытателя. Категория инженер-подполковник. Это особо подчеркивали на комиссии, ожидая, видимо, восторга с моей стороны. Но тогда это не произвело на меня ни малейшего впечатления. Не говоря уже о шоковом настроении, я просто не мог оценить этого великого для обычных армейских условий подарка, не видел в нем чего-то необычного. Это уже потом, прослужив много лет, я понял, что даже назначение на две ступени выше своего звания является редким благом. Да что там, на две - даже на одну ступень - это считается очень хорошо, так как позволяет получить очередное звание. А тут на четыре! Но тогда для зарождающихся ракетных войск средств (и, соответственно, званий) не жалели.
В городе все офицеры обращают на нас внимание.
Диковинка. Лейтенанты со значками академии. В академии ведь в основном учились
офицеры после училищ и войсковой службы. И заканчивали ее уже в приличных
званиях, обычно это были старшие офицеры. И даже то незначительное количество
выпускников, которые поступали в академию, не имея офицерского звания, при
существовавшем порядке и сроках выслуги выпускались, как правило, капитанами. А
тут вдруг лейтенанты! При случае заговаривают с нами, расспрашивают. И возникает
щекотливая ситуация. Погоны-то у нас артиллерийские, вот нас нередко и
спрашивают, в каком виде артиллерии мы служим.
 Да еще что-нибудь про орудия.
Кошмар! У меня ведь об этом очень туманные представления. А сказать, что я
ракетчик - нельзя. Режим. Приходится бормотать что-то невразумительное.
Да еще что-нибудь про орудия.
Кошмар! У меня ведь об этом очень туманные представления. А сказать, что я
ракетчик - нельзя. Режим. Приходится бормотать что-то невразумительное.
26-го июня я женился. Жена моя, тогда Челнокова Рита, а теперь Толкачева Маргарита Викторовна, тоже из спецнабора, но из совсем другого. Вот её фотография той поры.
Я уже упоминал, что на четвертый факультет МАИ (так публично назывался наш радиотехнический факультет, вероятно из соображений режимности) до 1948 года набирали по 200 человек на курс, а в 1948 году набрали только 100. Чья светлая (в смысле - прозрачная) голова решила, что количество подготавливаемых радиоинженеров надо сокращать - для меня осталось неизвестным, но порочность этого решения при бурном развитии радиоэлектроники вскоре стала очевидной. И тогда власть имущие стали исправлять положение привычным способом.
Со старших курсов физико-математических факультетов педагогических ВУЗов отобрали наиболее сильных студентов и бросили на доучивание на наш факультет. Одновременно набрали еще поток ребят после радиотехнических техникумов. Мы их так и называли: радиопедагоги и радиотехники. Их за полтора года надо было превратить в радиоинженеров, поэтому учебная нагрузка у них была запредельная. И нам они казались странноватыми, больно уж они были заморочены учебой. Например, в читалке, где мы привыкли иной раз и поболтать, эти мученики науки на нас шикали.
Моя жена была отличницей, персональным стипендиатом в Ярославском пединституте (получала Сталинскую стипендию, таких стипендий выделялось 1 -2 на факультет, лучшим из лучших студентов) и попала в этот спецнабор. Но познакомился я с ней не в институте, а в ЗАГСе, когда женился мой товарищ. Такие странные зигзаги порой выделывает судьба! Казалось бы, вероятность нашей встречи в нашей громадной стране была невелика. Я родился и жил в Москве, она - в Ярославле. Я - радист, она - педагог. Где мы могли встретиться? И вдруг по спецнабору она приезжает на наш факультет. Вероятность встретиться и познакомиться резко возрастает. Но судьба забавляется. Я ушел из института в академию, и вероятность нашей встречи снова ничтожна. И вдруг встреча в ЗАГСе, на свадьбе Валерия Зинина, о котором я уже упоминал. Она была подругой невесты (свидетелей, без которых сейчас не обходится ни одна свадьба, тогда не существовало, не было такого обычая). А невеста была тоже из радиопедагогов, тоже из Ярославля, и жили они в одной комнате общежития.
Кстати, к свадьбе Валерки Зинина (как мы все его называли) я сочинил “Эпитафию погибшему холостяку” и записал её на Валеркин самодельный магнитофон. Магнитофон тогда был не только диковинной экзотикой - про них практически никто просто даже не слышал. А Валерка каким-то образом сумел “изваять” самодельную конструкцию, достаточно странную, если смотреть с более поздних позиций, когда магнитофоны уже вошли в жизнь (“легко переносится тремя человеками”, как мы шутили тогда, но в этой шутке было 100% правды), но прекрасно работавшую. Этот магнитофон играл огромную роль в жизни маёвского общежития, да и МАИ в целом. Он был стержнем, на котором строилась художественная самодеятельность радиофакультета. В частности, знаменитый, прославившийся чуть ли не на всю страну и даже выступавший на сцене Большого театра “Телевизор” (у которого даже Аркадий Райкин позаимствовал одну ключевую идею). Он гремел в колонне МАИ на демонстрациях, со стенда, который везли в голове колонны. Он много где гремел, и, благодаря этому, многие знали Валерку. Вот на этот магнитофон я и записал свою эпитафию:
|
Эпитафия “погибшему” холостяку.
Ещё совсем недалеки Мгновенья в комнатушке ЗАГСа, Когда ты росчерком руки Себя отдал навеки в рабство.
Всего лишь двадцать дней назад Ты мог, одной душе в угоду, Идти куда глаза глядят И всюду чувствовать свободу.
Ты, верно, и сейчас не прочь, Как в прежние года, бывало, Поднять с холостяками в ночь «За процветание!» бокалы.
Но поздно! Пробил страшный час! Часы коварно прохрипели, И, прямо на глазах у нас, Вдруг на тебя хомут надели.
Теперь уж ты давно женат, Уже почти что три недели. И львицу, может быть, и ад* Уже успел узнать на деле.
Ну, ничего, ты не горюй. Ведь мы тебя не позабудем, И, по секрету говорю, Я чувствую - мы все там будем.
Уже сейчас не просто так Идут о свадьбах разговоры, Лишь самый ярый холостяк, Аничкин, всё считает вздором.
Но может потому теперь Он всё холостяком быть тщится, Что, не признавшись сам себе, Успел в кого-нибудь влюбиться?
Ведь многим кажется, что он Не зря прислушивался к спорам. А где-то, мрачен и влюблён, Уже таится тот, который…
И мы пытливым ищем оком: Так где ж он между нами тот, Кто, позабыв свои зароки, В анкете “холост” зачеркнёт И, тесный круг друзей покинув, Где шёл пять лет к плечу плечо, Залезет со счастливой миной Под чей-то женский каблучок.
Каблук, пила, - всё так не ново. И обязательно хомут! Не верь Валерка им на слово, - Ещё к тебе же прибегут.
Шагай вперёд спокойно, смело, Не верь шутливым пустякам, Ведь что же остаётся делать Завистливым холостякам!
*Из популярной студенческой песни: «Холостой, покуда не женился, Он не знает, что такое ад, Что такое бешеная львица, И какой есть у гадюки яд» |
Может быть, благодаря этой шутке моя будущая жена и обратила на меня внимание?
 Моя жена окончила институт в конце 1953 года,
получила диплом с отличием и работала в НИИ, в подмосковной Балашихе. Наша
свадьба была простой, непохожей на те грандиозные балы, которые теперь нередко
устраивают по этому случаю. Не было специальных свадебных костюмов, фаты, машин
и даже обручальных колец. Просто приехали на трамвае в ЗАГС и расписались. Да
еще дождь шел! Правда, видимо, не зря говорят, что любое дело, которое
начинается в дождь, будет хорошим. А потом была собственно свадьба у меня дома,
где было десятка два близких родственников и друзей. А в качестве свадебного
путешествия меня ждало путешествие в Кап. Яр, причем пока без жены, потому что
ей еще надо было оформить кучу документов и уволиться с работы, что, хотя и
допускалось по такой уважительной причине, но было не совсем просто. Вот наша
фотография через несколько дней после свадьбы.
Моя жена окончила институт в конце 1953 года,
получила диплом с отличием и работала в НИИ, в подмосковной Балашихе. Наша
свадьба была простой, непохожей на те грандиозные балы, которые теперь нередко
устраивают по этому случаю. Не было специальных свадебных костюмов, фаты, машин
и даже обручальных колец. Просто приехали на трамвае в ЗАГС и расписались. Да
еще дождь шел! Правда, видимо, не зря говорят, что любое дело, которое
начинается в дождь, будет хорошим. А потом была собственно свадьба у меня дома,
где было десятка два близких родственников и друзей. А в качестве свадебного
путешествия меня ждало путешествие в Кап. Яр, причем пока без жены, потому что
ей еще надо было оформить кучу документов и уволиться с работы, что, хотя и
допускалось по такой уважительной причине, но было не совсем просто. Вот наша
фотография через несколько дней после свадьбы.
Предписания у меня, Беспалова и Блистанова были с разными сроками прибытия в часть: 12, 13, и 14-го июля (видимо из-за того, что разное количество дней нам было дано на дорогу в отпуск). Но мы, с одного курса МАИ и из одного отделения академии, решили ехать вместе и в качестве даты прибытия выбрали среднюю - 13-го июля.
Интересен был наш отъезд. Мы с Беспаловым прибыли на вокзал заблаговременно, пристроили вещи в вагоне, а их было немало - на новое постоянное место жительства ведь едем - и вышли на перрон. А Блистанова что-то все не было и не было. Мы уже начали беспокоиться - что случилось? И вдруг, буквально минут за пять до отправления, такая картина: по перрону несется Блистанов, а за ним толпа родственников и ни у кого никаких вещей, только у Юрия в руке бутылка водки. Оказалось, что они отмечали отъезд, потом своевременно приехали на трех такси на вокзал, но, понадеявшись друг на друга, никто не вынул вещи из багажника такси. Обнаружив это, они и пытались до самого отправления поезда что-нибудь предпринять. Но что тут можно предпринять! Забегая вперед, могу сказать, что вещи не пропали. Когда таксист обнаружил в багажнике забытые вещи, он стал ездить по району, где его взяли, и гудеть. Тогда еще подача звуковых сигналов в Москве не была запрещена. А адреса он не знал, потому что взяли его на улице. Родители Блистанова услыхали эти гудки и поняли в чем дело. Так что история эта со счастливым концом. В том числе со счастливым концом и для нас с Беспаловым, потому что, как я уже говорил, вещей у нас было много, а тут вдруг появился свободный носильщик. Это оказалось особенно важным для нас, так как путешествие получилось значительно более сложным, чем мы предполагали, о чем я сейчас расскажу.
Вместе со все еще возбужденным Блистановым мы забрались в вагон, старенький плацкартный вагон еще с третьими полками для чемоданов под самым потолком (на которых, впрочем, нередко спали люди), и поезд Москва-Астрахань повез нас в новую неведомую жизнь. Распили Блистановскую бутылку и легли спать. Поезда тогда ходили неспешно. Например, на станции Саратов стоянка поезда была больше двух часов. Можно было на станции пообедать в ресторане (прямо на перроне), да ещё на троллейбусе съездить в город, зайти в магазины. До станции Верхний Баскунчак, где нам предстояло пересесть на поезд Астрахань-Паромная, мы ехали, по-моему, больше двух суток. Приехали к ночи, и тут нас ждала неприятная неожиданность. Оказывается, поезд Астрахань-Паромная, на который мы тут должны были пересесть, ходит через день. И, конечно же, он ушёл как раз в тот день, когда мы приехали, но только в первой половине дня. Так что теперь ждать его надо почти двое суток.
 Видимо и не было необходимости пускать этот поезд
чаще. Железнодорожная ветка от Верхнего Баскунчака до Паромной была построена в
годы войны, во время обороны Сталинграда. Ее построили наспех, из рельсов еще
того, старого БАМа, который начинали строить до войны. После войны эта дорога
использовалась очень мало, ведь на ней нет сколько-нибудь крупных населенных
пунктов, если не считать двух полигонов, ракетного и авиационного, Кап. Яр и
Владимировка (ныне г. Ахтубинск), и ее, похоже, ни разу не ремонтировали.
Поэтому во время моей службы на полигоне поезда по ней не ходили, а ползали. Вот
как выглядела эта дорога.
Видимо и не было необходимости пускать этот поезд
чаще. Железнодорожная ветка от Верхнего Баскунчака до Паромной была построена в
годы войны, во время обороны Сталинграда. Ее построили наспех, из рельсов еще
того, старого БАМа, который начинали строить до войны. После войны эта дорога
использовалась очень мало, ведь на ней нет сколько-нибудь крупных населенных
пунктов, если не считать двух полигонов, ракетного и авиационного, Кап. Яр и
Владимировка (ныне г. Ахтубинск), и ее, похоже, ни разу не ремонтировали.
Поэтому во время моей службы на полигоне поезда по ней не ходили, а ползали. Вот
как выглядела эта дорога.
Мы оказались перед проблемой - как добираться дальше. Поговорили с железнодорожниками - не идет ли туда какой-нибудь товарняк. Нам сказали, что товарные ходят редко, но, мол, походите по путям, поспрашивайте. Мы, нагруженные чемоданами, довольно долго, бродили по ночным темным путям. Наконец кто-то нам сказал, что вот этот состав должен идти туда. Мы залезли на тормозную площадку одного из вагонов. Состав тронулся. Он долго маневрировал взад-вперед по станционным путям и остановился. Приехали. Оказалось, он никуда не идет. Еще побродили. В конце концов, поняли безнадёжность этой затеи и решили дожидаться утра на вокзале.
Вокзал - это громко сказано. На самом деле это было какое-то ветхое деревянное сооружение. Окна все были открыты. Естественно - ведь была страшная жара, несмотря на ночь. От попытки поспать пришлось очень быстро отказаться. В эти открытые окна летели, прыгали, ползли мириады каких-то неизвестных мне насекомых, всевозможных форм и размеров. Они ползали по лицу, лезли в нос, в уши. Какой уж там сон!
С трудом дожили до утра. Утром вышли на привокзальную площадь и стали ловить попутную машину. Нашли довольно быстро, но не до Кап. Яра, а гораздо ближе. Выбирать не приходилось, главное, что в ту сторону. Мы загрузились в открытый кузов грузовика и покатили по знойному и невероятно пыльному грейдеру - так называлась в тех краях эта дорога, идущая параллельно железнодорожной ветке, параллельно Ахтубе и даже параллельно Волге, но - увы! - слишком далеко от них, чтобы на ней ощущалась хоть капелька речной прохлады. Дорога, ставшая такой привычной за время жизни в Кап. Яре, что уже как само собой разумеющееся воспринимались густые клубы пыли от машины и навык - держать большую дистанцию между машинами, если их две или больше. Иначе не только надышишься и пропитаешься насквозь этой тончайшей пылью, но и просто ничего не видишь.
Сейчас никто не ездит в открытом кузове грузовика, да это и запрещено правилами дорожного движения. А тогда это был, пожалуй, основной доступный нам способ передвижения. Я, в общем-то, не знаю, возможно он и тогда был запрещен правилами, но по всей нашей необъятной стране люди так ездили, и это считалось абсолютно нормальным. Максимальный комфорт, на который можно было рассчитывать - это когда в кузове грузовика поперек были установлены доски в качестве скамеек.
Кстати, полигонные дороги, с которыми мы вскоре познакомились, имели свою “изюминку”. Нет, конечно, это были не грейдерные дороги - это была бетонка, почти без колдобин и серьезной пыли. Но! Когда строили эти дороги - что-то экономили. То ли материалы, то ли время. Поэтому все они были однополосные, и, чтобы машинам разъехаться, нужно было хотя бы правыми колесами съехать на обочину. В обычную погоду это не представляло какой-то неприятности. Но в дождь, к счастью редкий в том климате (в данном случае к счастью), машины с обочин натаскивали на бетонку глину, и бетонка вскоре становилась очень скользкой, “намыленной”. В результате, в такую погоду машины нередко слетали с бетонки и опрокидывались, что вносило существенную лепту в пополнение “населения” тринадцатой площадки (кладбища). Ведь население в городке, в основном, было молодое, и естественным путем эта площадка пополнялась слабо. Не потому ли эту тринадцатую площадку, которая вначале располагалась рядом с бетонкой, позже перенесли подальше от нее, так сказать, с глаз долой.
Вспоминается связанный с этой невеселой темой забавный случай. Однажды, офицеры отделения БРК, приехавшего к нам на стрельбы дивизиона, ехали по такой бетонке в закрытой машине и опрокинулись. “Я в первый момент был оглушен, - рассказывал нам один из офицеров, - очнулся - страшно болит голова. Провел рукой по голове, смотрю - полная рука какой-то красной жижи. Ну, думаю, - мозги вылетели!”. В этом месте кто-то из слушавших съехидничал: “Чем думаешь-то?”. Оказалось, что когда машина перевернулась, об его голову разбило арбуз, один из тех, что они прихватили где-то по дороге.
Впрочем, все это было потом. А пока мы, измученные бессонной ночью, жарой, вещами, многократными пересадками с машины на машину, добрались до Владимировки. Грязные, потные, изможденные, в ожидании очередной попутной машины присели у забора рынка, пытаясь найти хоть крошечный кусочек тени. Вокруг только сухая раскалённая глина и облака пыли, нигде ни клочка зелени. А из репродукторов лилась веселая бодрая песня: “До чего же хорошо кругом, земляника поспевает под кустом”. Запомнилась на всю жизнь эта картинка.
Полигон встретил нас очень гостеприимно. Несмотря на то, что было очень тяжело с жильем, и многие офицеры полигона снимали с семьями глиняные мазанки в примыкавшем к городку грязном, пыльном, без единого деревца селе, для нас были зарезервированы под общежития два новых двухэтажных каменных дома. Кроме того, были зарезервированы два двухэтажных восьмиквартирных дома для семейных, то есть 40 комнат. Стало быть, на 40 семей (больше чем о комнате на семью тогда никто и не мечтал). Этого было вполне достаточно, потому что женатых было не так уж много. Как писал Симонов:
|
Когда я возвращаюсь к этим датам, Я и сегодня верю не шутя, Что в тридцать первом не было женатых, Что все женились года два спустя. |
Если заменить тридцать первый на пятьдесят четвертый, то и я могу присоединиться к этим словам.

Городок в это время интенсивно строился. Появлялись новые кварталы типовых двухэтажных жилых домов. Строилось новое здание штаба полигона, который пока ютился в двух таких же типовых домах.
Тогда городок был ещё открытым. Это позже появилось ограждение, и вход стал только через КПП по пропускам. Поэтому по городку свободно ходили и ездили жители прилегающего села Капустин Яр. Иногда встречались очень забавные картинки. Например, катит по улице (зимой!) довольно старая бабка в валенках на таком же старом велосипеде. Часто встречались телеги, запряжённые лошадью, а иногда и верблюдом. Вот на фото такая телега на фоне строящегося здания штаба.
 Некоторое время мы, в общем-то, бездельничали на
десятой площадке (в городке). Оформлялись, знакомились с частью, купались.
Наконец, настал день, когда мы отправились на мотовоз. Это такое интересное
транспортное средство, состоявшее из чего-то вроде большой мотодрезины в
качестве локомотива и пары ископаемых вагонов. На этом “метро” мы потом много
лет ездили на площадки. Мотовоз за эти годы слегка изменялся, увеличивалось
количество вагонов, изменялись сами вагоны, локомотив, но принципиально все
оставалось таким же. Вот он на фото уже более позднего времени.
Некоторое время мы, в общем-то, бездельничали на
десятой площадке (в городке). Оформлялись, знакомились с частью, купались.
Наконец, настал день, когда мы отправились на мотовоз. Это такое интересное
транспортное средство, состоявшее из чего-то вроде большой мотодрезины в
качестве локомотива и пары ископаемых вагонов. На этом “метро” мы потом много
лет ездили на площадки. Мотовоз за эти годы слегка изменялся, увеличивалось
количество вагонов, изменялись сами вагоны, локомотив, но принципиально все
оставалось таким же. Вот он на фото уже более позднего времени.
Ездить мотовозом было гораздо комфортнее, чем на “вибростендах” - грузовиках с тентом и скамейками в кузове, на которых тоже иногда приходилось ездить. Но у него было два недостатка. Во-первых, он очень медленно ездил, и, во-вторых, до него было довольно далеко идти от городка, тогда как “вибростенды” обычно забирали своих пассажиров в городке, у штаба. Поэтому дорога на мотовозе занимала гораздо больше времени, и все предпочитали “вибростенды” в тех редких случаях, когда была возможность выбора.
Этот ежедневный утренний маршрут на мотовоз за многие годы стал привычным, но остался таким же неприятным, как и в первые дни. Мы чаще всего не высыпались, а из-за этого мотовоза приходилось вставать рано, ведь только чтобы дойти до него нужно было минут двадцать пять, да еще и ползти потом на нём до площадки. Большинство выскакивало из дома в последнюю минуту и потом неслись со всей возможной скоростью, чтобы не опоздать. Наблюдательные люди скоро заметили, что есть “задний ограничитель” - майор Мацон из отдела телеметрии. Про него говорили, что он так точно рассчитывает время, что когда он ставит ногу на подножку вагона, мотовоз трогается. Следовательно, по дороге нужно смотреть, где идет Мацон и хоть немного забежать вперед него - тогда не опоздаешь. Шутка, конечно, хотя и небезосновательная.
Особенно неприятной была сама дорога. По городку нормальная, но потом мы выходили на бетонку, которая вела к железнодорожному переезду, вблизи которого была станция мотовоза, и шли среди машин. Необходимость дорожки к мотовозу для людей стала “притчей во языцех”. Но когда её наконец построили, то оказалось, что построили бездарно. Она была сделана ниже уровня окружающего грунта, и вся грязь лилась на неё. Поэтому нередко приходилось идти как и раньше - среди машин по бетонке.
Так получилось, что накануне того дня, когда я впервые поехал на вторую площадку (техническую позицию, или техничку, как обычно ее называли), ко мне приехала жена. Ребята из комнаты общежития, где я жил эти две недели, деликатно испарились. Мы переночевали в общежитии, а утром я уехал на площадку, рассказав перед этим жене, где найти женщину, которая была приставлена к нам, прибывающему спецнабору, кем-то вроде коменданта и занималась нашим размещением.
Когда вечером я вернулся в общежитие, ребята мне сказали: “А ты уже здесь не живешь”. Оказалось, что жена уже получила комнату. Это была комната, площадью 13 кв. метров в трехкомнатной квартире на первом этаже одного из зарезервированных для нас домов. Адрес: ул. Ватутина, дом 10, квартира 2. Это было радостным событием - первое наше самостоятельное жилье.
 Дом был в самом центре городка, через дорогу от
Дома офицеров и прилегающего к нему парка, в котором мы потом проводили много
времени. В парке были волейбольные площадки, где свободными вечерами мы с
азартом сражались в волейбол. Была там и танцплощадка, которая тоже пользовалась
большим вниманием спецнаборовцев, в большинстве тогда ещё холостых, и деревянный
летний кинотеатр – единственное место в городке, где можно было летом посмотреть
кино (зимой киносеансы были в Доме офицеров). Вот он, этот летний кинотеатр. Сейчас его нет. Когда его снесли – не знаю, но
пока я служил на полигоне, он работал и радовал нас новыми фильмами.
Дом был в самом центре городка, через дорогу от
Дома офицеров и прилегающего к нему парка, в котором мы потом проводили много
времени. В парке были волейбольные площадки, где свободными вечерами мы с
азартом сражались в волейбол. Была там и танцплощадка, которая тоже пользовалась
большим вниманием спецнаборовцев, в большинстве тогда ещё холостых, и деревянный
летний кинотеатр – единственное место в городке, где можно было летом посмотреть
кино (зимой киносеансы были в Доме офицеров). Вот он, этот летний кинотеатр. Сейчас его нет. Когда его снесли – не знаю, но
пока я служил на полигоне, он работал и радовал нас новыми фильмами.
 Далее
- два снимка нашего Дома офицеров.
Далее
- два снимка нашего Дома офицеров.

Обратите внимание – слева перед домом офицеров на высоком постаменте памятник Сталину. Позже, в эпоху борьбы с культом личности, фигуру Сталина снесли в одну ночь и заменили фигурой Ленина, слишком маленькой для такого большого и высокого постамента. Но, видимо, другой в спешке не нашлось. Позже эта оплошность была исправлена, и перед Домом офицеров появился новый памятник, который стоит там и поныне, хотя теперь и Ленин развенчан, и весь эксперимент по построению социализма в СССР считается ошибкой.
А вот фотография нашего дома, одного из двух первых семейных домов студентов-лейтенантов.

Наше окно на первом этаже, третье слева. Снимок сделан много позже, когда я давно уже был военным пенсионером и приезжал в Кап. Яр на юбилей полигона. Здесь перед домом большие деревья, а тогда их не было, зато перед домом росли белые акации, цветы которых и их изумительный аромат радовал нас каждую весну.
Там мы прожили примерно семь счастливых лет, счастливых, потому что многие трудности, неприятности, с которыми мы обильно встречались в быту и на службе, вполне компенсировались нашей молодостью, любовью, прекрасными друзьями.
Жизнь разбросала нас потом. С большинством из них встретиться удавалось очень редко, с другими до сих пор не довелось, а с некоторыми теперь уж и никогда не встретиться. Умерли Жора Бобровник, Эдик Стеблин, Женя Михеев, Толя Дмитриев, Женя Кулин, Толя Швыряев, Саша Раевский, Витя Бородаев, Валера Суходольский, (не из нашего спецнабора, но тоже бывший студент, замечательный человек с интересной незаурядной судьбой), умерли оба моих попутчика в Кап. Яр – Юра Блистанов и Гена Беспалов, и много других, может быть не столь близких мне, но отличных ребят, своих, составлявших тот круг, в общении с которым и жизнь была интересной, светлой и радостной, несмотря на то, что судьба занесла нас на “задворки империи”.
Сохранилась фотография нашего незабываемого лейтенантско-студенческого братства:

Это, в основном, мои сокурсники по академии, радисты. Многие уже с жёнами (всё же «женились года два спустя»).
Из тех, кого я упоминаю в этом повествовании, впереди в форме сидит Володя Краскин, сзади четвёртая слева его жена Хиония, правее её моя жена Маргарита, ещё правее Вадим Мальков и его жена Тамара, крайний справа – я.
Войдя в первый раз в первую в жизни свою комнату, я увидел жену, несколько чемоданов, а поперек комнаты была натянута веревка, и на ней, как белье после стирки, развешана наша вынутая из чемоданов одежда. Больше в комнате ничего не было. Надо сказать, что в ней еще очень долго после этого ничего больше не было. Приобрести хоть какую-нибудь мебель было негде, да и не на что. Поэтому спали мы на полу, на моей шинели, ели тоже сидя на полу, используя в качестве стола чемодан, а вместо шкафа я соорудил в углу комнаты “систему координат” из трех реек с поперечиной, на которой и висела наша тогда немногочисленная одежда.
Оказалось, что есть, сидя на полу, чрезвычайно неудобно. Трудно понять, как это узбеки, например, по доброй воле предпочитают такой вариант. Ноги сразу начинают болеть, всё устает. Поэтому, когда гарнизонная КЭЧ спустя немалое время сделала нам царский подарок - выделила старый обшарпанный канцелярский стол и несколько под стать ему стульев с железными бирками, мы в полной мере смогли оценить это достижение цивилизации.
Назначен я был в лабораторию радиоуправления первого испытательного управления (в/ч 15646), находившегося на второй площадке, километрах в 18 от жилого городка (десятой площадки). Управление размещалось как бы в пристройке к монтажно-испытательному корпусу - большому зданию, похожему на лежащую на спине гигантскую толстую букву Г с короткой перекладиной. Внутри это был один большой и высокий зал, часть которого была высотной. Вероятно, предполагалось, что там можно будет ставить ракету вертикально. Правда, при мне это никогда не делалось, да и практически сразу стало просто невозможным, так как уж по крайней мере начиная с ракет 8А62, 8К51, ни одна ракета в вертикальном положении там бы и не поместилась. Пристройка же была одноэтажной, тянулась вдоль всего зала и отделялась от него перегородкой и коридором.
В управлении было несколько испытательных отделов и две лаборатории. Лаборатория №1 – гироприборов, и лаборатория №2 - радиоуправления. Наша лаборатория состояла из двух довольно самостоятельных половин, каждая из которых занималась своей системой. Одна - системой радиоуправления дальностью (РУД), а другая - системой боковой радиокоррекции (БРК). Первой половиной руководил подполковник Завалеев, а второй, БРК, куда и был назначен я - сам начальник лаборатории подполковник Юртайкин Николай Иванович, личность на полигоне широко известная, но не с лучшей стороны, можно сказать довольно одиозная личность.
В эту лабораторию было назначено около десятка лейтенантов с нашего академического курса радистов. Между прочим, как-то так забавно получилось, что в лаборатории образовался удивительный подбор довольно редких имен: Филипп Данилович (Завалеев), Лазарь Григорьевич (Микинелов), Рудольф Тимофеевич (Крутов), Вениамин Порфирьевич (Журавлев), Муксине Башаровна (Куделенская, жена нашего “спецнаборовца” с не менее броским именем - Аскольд), Эдуард Всеволодович (Стеблин). В общем-то, как бы ничего особенного, но все же на каждом шагу такие имена не встречаются, тем более так густо.
Кстати, из-за сложных отношений Муксине (в просторечии Марины) с Аскольдом (брак в конце концов распался) местные острословы окрестили её «Аскольдова могила».
Системами радиоуправления стали оснащать ракеты с целью повысить точность попадания в цель, так как существовавшие в то время гироприборы не могли обеспечить достаточной точности. Поэтому уже на ракете Р2 (8Ж38) стояла система БРК, работавшая в метровом диапазоне волн. На борту ракеты находился приемник, а на земле развертывался передающий комплекс с двумя антеннами типа “волновой канал”, разнесенными друг от друга на 100 м. Сигнал в антенны подавался через антенный коммутатор, который коммутировал диаграмму направленности, отклоняя главный лепесток то влево, то вправо от плоскости стрельбы с частотой, если мне не изменяет память, 50 Гц. При этом, при отклонении влево и вправо сигнал имеет свою модуляционную окраску. В плоскости стрельбы устанавливалась равносигнальная зона. Таким образом, когда ракета находилась в плоскости стрельбы, сигналы от левого и от правого лепестков были одинаковы, при отклонении же от плоскости стрельбы один сигнал возрастал, а второй убывал. Вырабатывался сигнал ошибки, который после соответствующей обработки подавался на рулевые машинки газовых рулей, возвращая ракету в плоскость стрельбы.
Наземный комплект состоял из трех машин: аппаратной машины, где находился собственно передатчик, контрольной машины, где размещался приемник, аналогичный бортовому, с помощью которого равносигнальная зона устанавливалась в направлении стрельбы, и вспомогательной машины, которая служила для перевозки антенн, кабелей и другого вспомогательного имущества. Антенны передатчика и контрольной машины устанавливались в точках, привязанных геодезистами, причем антенны передатчика на строго горизонтальной линии и строго перпендикулярно к направлению стрельбы, для того, чтобы точно совместить равносигнальную зону с плоскостью стрельбы.
Системы радиоуправления, и БРК в частности, конечно, усложняли ракетный комплекс, его развертывание, ухудшали боеготовность и, кроме того, создавали потенциальную опасность с точки зрения возможности подавления помехами противника. Но на это приходилось идти, чтобы получить удовлетворительную точность.
Очевидные недостатки системы БРК ракеты 8Ж38 (громоздкость, сложность топопривязки разнесенных антенн и контрольной точки и, особенно, незащищенность от радиопомех) вызвали необходимость новой разработки, и уже на ракете 8К51 появилась новая система - БРК-2. Эта система работала в сантиметровом диапазоне волн, имела только одну передающую антенну, а приемная антенна была расположена на “спине” ракеты, и, таким образом, корпус ракеты экранировал антенну от возможного воздействия помех со стороны противника. Однако, все принципы работы системы остались прежние.
Главным конструктором систем БРК был Михаил Иванович Борисенко, работавший в НИИ-885, очень энергичный, немного грубоватый, напористый человек. Помню, как на меня произвел большое впечатление его рассказ о том, как он защищал диплом в Москве 16 октября 1941 года, когда в Москве была паника, так как казалось, что немцы вот-вот войдут в Москву. Как ему удалось собрать комиссию, “купив” ее членов тем, что он каким-то образом достал им машины, на которых сразу после его защиты они умчались из Москвы.
 Но мне чаще приходилось иметь дело с его
заместителем, Германом Алексеевичем Барановским, замечательным человеком, бывшим
фронтовиком, потерявшим на фронте руку. Я особенно высоко ценил его за редкую
объективность. Когда мы, как офицеры-испытатели, давали замечания по недостаткам
испытываемого оборудования, то нередко встречали сопротивление не только
“промышленников”, разработчиков, но и тех, кто, казалось бы, должен нас
полностью поддерживать - военпредов. В общем-то это понятно - ведь они уже
приняли, пропустили это оборудование, значит выявленные недостатки - это брак в
их работе. И для меня было неожиданным, когда, послушав наши, нередко очень
горячие, споры, Герман Алексеевич вдруг вмешивался и говорил своим инженерам:
“Бросьте спорить! Ребята дело говорят. Будем переделывать”.
Но мне чаще приходилось иметь дело с его
заместителем, Германом Алексеевичем Барановским, замечательным человеком, бывшим
фронтовиком, потерявшим на фронте руку. Я особенно высоко ценил его за редкую
объективность. Когда мы, как офицеры-испытатели, давали замечания по недостаткам
испытываемого оборудования, то нередко встречали сопротивление не только
“промышленников”, разработчиков, но и тех, кто, казалось бы, должен нас
полностью поддерживать - военпредов. В общем-то это понятно - ведь они уже
приняли, пропустили это оборудование, значит выявленные недостатки - это брак в
их работе. И для меня было неожиданным, когда, послушав наши, нередко очень
горячие, споры, Герман Алексеевич вдруг вмешивался и говорил своим инженерам:
“Бросьте спорить! Ребята дело говорят. Будем переделывать”.
Принцип работы системы БРК, как видно из вышесказанного, достаточно прост, но при практической работе вскрывалось немало “подводных камней”. Первая проблема, с которой сталкивались недостаточно опытные операторы, состояла в том, что передающие антенны имеют многолепестковую диаграмму. В результате создавалась не одна, а несколько равносигнальных зон, причем в соседних с главной зоной фазировка получалась обратная. То есть при отклонении ракеты, например, влево от плоскости стрельбы бортовой прибор воспринимает это как отклонение вправо и, соответственно, дает команду довернуть ракету влево. Ракета еще больше уходит влево, сигнал ошибки возрастает и еще больше разворачивает ракету влево. Происходит лавинообразный процесс, в результате которого ракета опрокидывается. Конечно, при квалифицированной работе отделения БРК есть необходимые критерии, позволяющие проконтролировать правильность установки. Достаточно, вращая фазовращатель передатчика, немного отклонить зону влево или вправо и, связавшись с контрольным пунктом, проверить, в какую сторону отклонилась стрелка контрольного индикатора. Но не было никакой “защиты от дурака”. И однажды такой “дурак” нашелся.
Было это уже много позже, когда мы были “зубрами” в своем деле и знали обе системы БРК досконально, до каждого сопротивления или конденсатора их немалых принципиальных схем. Об этом случае очень мало кто знает, так как у его участников не было оснований распространяться об этом. Ведь отношение к их действиям может быть, мягко говоря, двойственным. А дело было так. Пуск. Ракета опрокинулась. Бесстрастная телеметрия показала, что причиной явилась система БРК. Была типичная картина того, что я только что описал. Нам, офицерам лаборатории, картина была абсолютно ясна. Но ведь за этим были люди! Я сейчас уже не помню, какое отделение БРК обеспечивало этот пуск - из части обслуживания первого управления (в/ч 31925), или это был какой-то ракетный дивизион, приехавший на стрельбы. Но, если бы было установлено, что такой-то офицер своими неправильными действиями угробил такую дорогостоящую ракету, результат труда тысяч людей, - трудно даже представить себе, что сделали бы с этим офицером. Во всяком случае жизнь его была бы сломана.
Как положено, была создана комиссия по выяснению причин аварии. В эту комиссию попал и я. В комиссии было довольно много людей, но, как нередко бывает, всю работу делали “рабочие лошадки”, а остальные рассматривали и обсуждали результаты и подписывали заключение. Вот эти “рабочие лошадки”, одной из которых был я, решили все свалить на бортовую аппаратуру. Ведь в этом случае никто не виноват, отказ всегда может случиться, как бы надёжно ни было оборудование. Конечно, как я уже говорил, это не очень-то честное решение, но было жалко попавших в беду офицеров. Ведь пострадал бы не один непосредственный виновник, но и начальник отделения, да и его начальники.
Нам пришлось немало повозиться со схемой бортового прибора, пока мы нашли какой-то элемент схемы, при выходе из строя которого наблюдалась приблизительно похожая картина. Надо сказать - очень приблизительно. Если бы кто-то из специалистов вник - он легко бы мог увидеть, что указываемая комиссией вероятная причина аварии, можно сказать, притянута за уши. Но гражданских специалистов в комиссии не было - это были не ЛКИ, а серийный пуск, - а военных специалистов кроме нас на полигоне не существовало. Так все и закончилось, оставшись смутным пятном на моей совести.
Немного отвлекусь. Я начал писать эти записки 27 марта 2000 года. Пишу на работе, так как дома у меня нет компьютера, а познав как легко и удобно писать на компьютере, и, особенно, редактировать, уже трудно писать вручную. Тем более, что для удобочитаемости все равно нужно будет набирать текст на компьютере. Поэтому пишу урывками. Обычно вечерами, но и вечерами часто много неотложных дел. Поэтому часто возникают значительные перерывы в моем, если можно это так называть, творчестве. Вот такой большой перерыв случился в мае. За весь месяц не удалось написать ни строчки. И за это время произошло два события, о которых хочу рассказать. Как в модных сейчас анекдотах - “одно хорошее, а другое плохое. С какого начать?” Начну все же с плохого, хотя в хронологическом порядке следовало бы наоборот. Приятнее “на закуску” иметь хорошее, а не плохое.
17 мая я узнал, что умер Игорь Шелапутин, мой однокурсник по МАИ. А 19 мая сообщили, что умер Геннадий Беспалов, о котором я уже упоминал в моем повествовании. Мы с ним вместе ехали в Кап. Яр, служили там, потом судьба разбросала нас, а в конце моей службы опять оказались в одном месте - в Управлении радиоэлектронной борьбы Генерального штаба. И вот эта почти одновременная смерть этих ребят произвела на меня сильное впечатление.
Дело в том, что, когда мы учились в МАИ, это были неразлучные друзья. Сначала они учились на курс старше нас. Оба лыжники, причем сильнейшие. Бессменные чемпионы МАИ. Только иногда первенство выигрывал Шелапутин, а иногда Беспалов. А быть чемпионом МАИ, многотысячного института, где спорт был возведен буквально в культ, это - я даже не подберу слова. Сказать, что это очень непросто - слишком слабо. Спортсмены МАИ, особенно в командных видах (женская баскетбольная, мужская волейбольная) иногда становились чемпионами страны. Естественно, что Беспалов и Шелапутин очень много времени уделяли тренировкам. Накопилась задолженность по заданиям, зачетам и т.д. Других бы при такой задолженности, вероятно, отчислили, но спортсменами такого класса МАИ не разбрасывался. Поэтому их просто перевели на курс младше, на наш курс.
Они были неразлучными друзьями в буквальном смысле слова. Мы никогда не видели их друг без друга. Им даже фамилию общую придумали - Беспутины. Они и у нас вечно пропадали где-то на тренировках, иногда приходили на лекции прямо с тренировок, усталые, с какими-то мешками, и дремали где-нибудь на заднем ряду. Но учились неплохо, и успешно заканчивали институт, когда “стрясся” этот самый спецнабор.
На комиссию пригласили только Беспалова. Они пришли вдвоем и сказали, что хотят быть вместе и просят либо взять обоих, либо обоих не брать. Но наивно было ожидать, особенно в те времена, что кто-то к этому прислушается. Беспалова призвали, Шелапутин окончил институт и стал гражданским инженером. Беспалов в Кап. Яре, Шелапутин в Москве.
Не знаю, поддерживали ли они какие-то отношения, когда жизнь их разбросала. Вероятно, да. Письма, встречи в отпуске. Но расстояние и время - страшные факторы, и, скорее всего, эта дружба, после того как судьба вмешалась в нее со своим скальпелем, потускнела. Тем более, что у обоих появились жены, дети. Я даже не знаю, возродилась ли как-то их дружба после того, как Беспалов, отслужив десять лет на полигоне, возвратился в Москву.
И вот, эта, почти одновременная, смерть. Невольно вспомнилась традиционная формула западных сказок: “они жили долго и счастливо и умерли в один день”.
А теперь о хорошем событии. 13 мая была традиционная встреча ветеранов полигона Кап. Яр в сквере у Большого театра. Я, по правде говоря, не знаю, кто придумал эти встречи, выбрал место, как сообщил всем об этом. Но эти встречи происходят уже много лет, мне кажется, что больше десяти. Поначалу на них было очень интересно. В сквере у Большого театра собиралась огромная толпа. Там были и “первопроходцы” Кап. Яра, люди, которые создавали полигон, проводили первые пуски, были люди старше нас, было много из спецнабора, ну и поколения после нас. Было очень интересно встретиться и с трудом узнавать людей, с которыми столько всего связано и которых много лет не видел. Москвичи с недоумением смотрели на возбужденную толпу, запрудившую сквер, и не понимали, почему здесь собрались эти люди. После одной из первых встреч я написал шуточные стихи и уверял всех, что вот мол, проходил тут Андрей Вознесенский, тоже удивлялся, почему это здесь собрались люди, и когда узнал, то написал такое стихотворение:
|
День Победы отгремел салютом, Отзвенел военными медалями, Но сегодня снова почему-то Ветеранов встречу увидали мы.
У Большого, на аллеях сквера, Где цветами яблони увенчаны, Обнимаются седые офицеры, И то плачут, то смеются женщины.
Люди здесь особенной породы, Не грозит их дружбе увядание. К ним сюда, презрев закон природы, Молодость пришла их на свидание.
И звенит весна над стариканами, И пылают щеки кумачово, И зашевелились тараканами Рифмы в голове у Толкачева. |
К сожалению, теперь на эти встречи приходит все меньше и меньше народу. В этом году собралось вообще всего человек тридцать-сорок. Не знаю уж почему. Может быть пропал эффект новизны от этих встреч. Посмотрели друг на друга - а дальше что? Общих тем для разговоров мало. Нельзя же без конца вести разговоры на тему “а помнишь…” Где-то у Тынянова я прочёл: “Расспросы и рассказы имеют смысл только когда люди не видятся день или неделю, а когда они вообще видятся неопределённо и помалу - всякие расспросы бессмысленны”. Похоже, что это верно подмечено. А может быть причина еще в том, что старшее поколение, воспитанное в более романтичных традициях, сильно состарилось, многих уже нет, другие тяжело больны и им не до встреч. А более молодые поколения более прагматичны, лишены этой романтики воспоминаний, заняты делами и считают все это ненужной чепухой, или, во всяком случае, чем-то очень второстепенным, на что не находится времени. Кроме того, в это время горячая пора на садовых участках, которыми обзавелось большинство из нас. Словом, не знаю в чем причины. Возможно, все, что я упомянул, вносит свой вклад и что-нибудь еще, но факт остается фактом. Появившаяся не так уж и давно традиция потихоньку умирает. А жаль!
Но вернемся к хронологии.
До нашего прихода в лабораторию в подразделении лаборатории, занимающемся БРК, людей было мало - всего три человека: старший лейтенант Плахотный, капитан Тремасов и сам начальник лаборатории подполковник Юртайкин. Поэтому нас, вновь прибывших, сразу стали бросать “в бой”. Видимо Юртайкин полагал, что мы, люди с высшим академическим образованием, обязаны справиться с задачей обеспечения пуска. В общем-то, это было верно, но надо сказать, что на первых моих самостоятельных пусках некоторая “дрожь в коленках” у меня была. Теоретически я, конечно, знал аппаратуру БРК, но даже “покрутить ручки” в академии не очень-то довелось. А тут сразу живая ракета. Вообще-то, строго говоря, моя роль при пуске была не ручки крутить, а контролировать работу расчета наземной станции БРК. Но дело в том, что этот самый расчет, из в/ч 31925, тоже не имел еще практического опыта, не говоря уже о том, что теоретически знал систему хуже меня. Например, начальником одного из двух имевшихся в части отделений БРК был Женя Михеев, тоже из нашего спецнабора, мой однокурсник по академии. То есть его подготовка была не лучше моей, тем более, что учился он не очень хорошо, в связи с чем и попал на капитанскую должность начальника отделения, в то время как большинство из нас было назначено на подполковничьи, в крайнем случае, майорские должности. Правда, надо сказать, что с точки зрения военной карьеры, Женя Михеев потом обошел большинство из нас, так как к концу службы он, один из немногих из нашего спецнабора, стал генералом.
Два-три самых первых пуска, которые я обеспечивал с наземной станции БРК, меня сопровождал, был моим наставником, капитан Тремасов Василий. Хотя у него и не было в то время высшего образования, но он имел хороший практический опыт, и с ним мне, конечно, было гораздо спокойнее. У него я почерпнул и такой своеобразный опыт. Кажется, на втором пуске, в котором я участвовал, у нас на станции возникла неисправность. Пытаемся разобраться и починить, а тут объявляется двухчасовая готовность к пуску. Тремасов докладывает:
-Принято.
-Как принято! У нас же неисправность!
-Часовая готовность.
-Принято.
-Тридцатиминутная.
-Принято.
-Пятнадцатиминутная.
И вдруг слышим: “Телеметрия просит задержку на 2 часа”.
Ух. От души отлегло. А Тремасов пояснил: “Ты думаешь у нас одних неисправность? Кто попросит задержку, того потом будут ругать. Тут уж у кого нервы крепче”. И, действительно. За это время мы спокойно починились и виноватыми в задержке не числились. Такая вот наука, несколько скользкая.
Вообще, неисправности в наземной аппаратуре БРК, “бобы”, как это принято было называть на полигоне, возникали нередко, особенно зимой. Мы быстро поняли в чем основная причина зимних отказов. Когда люди входят в промерзший КУНГ и включают отопление, воздух начинает нагреваться и влага, которая была в воздухе и которую выделяют люди с дыханием, образует конденсат на холодных платах аппаратуры. Вот по этому конденсату и проходят электрические пробои. Поэтому мы стали действовать так: кто-то один входил в промёрзший КУНГ, включал вытяжную вентиляцию, тумблеры накала ламп на стойках аппаратуры и выходил. Остальные ждали на улице. Через некоторое время он включал анодное напряжение и опять выходил. И уже минут через 20-30, когда аппаратура прогревалась изнутри и становилась теплее окружающего воздуха, входили все операторы и включали отопление в КУНГе.
Когда начиналась наша служба на полигоне, пуски ракет были еще не очень частыми, были значительные перерывы между этапами испытаний. И когда начинался очередной этап, то “открывался заказ”. Специальным приказом отдавались люди, которые работают по этому заказу, и им на период работы по заказу устанавливалась 50 процентная надбавка к окладу. Но при этом (уж не знаю, установлено ли это было официально свыше, или это была инициатива нашего “любимого” подполковника Юртайкина) полагалось находиться на площадке постоянно, днём и ночью, то есть жить там. Для этого на второй площадке стояли вагоны, и каждому отводилось место в купе для ночлега. Легко понять, как это “радовало” нас, молодых, только что женившихся офицеров. Мы с Эдиком Стеблиным, с которым работали параллельно до конца его службы на полигоне, протестовали против этой дурацкой установки, тем более, что в основном, делать-то ночью на площадке было нечего. Даже при открытом “заказе” подготовка и пуски ракет были относительно редкими. Когда мы спрашивали - зачем мы зря круглосуточно здесь торчим, Юртайкин говорил: “Изучайте техническую документацию”. Хотя изучать-то было нечего. В сотый раз перечитывать тощие технические формуляры на аппаратуру? Вообще, когда мы доказывали, что незачем жить тут в вагонах, Юртайкин искренне недоумевал: “А что вам дома делать?”.
Надо сказать, что одним из “пунктиков” Юртайкина было стремление научить подчинённых ему офицеров “стойко переносить тяготы и лишения воинской службы” - как записано в уставе, и он всячески стремился создавать эти трудности, даже там, где это было совершенно не нужно.
Приведу в качестве иллюстрации такой эпизод. Однажды, когда я работал с бортовым оборудованием БРК на вертолёте (об этой работе я расскажу чуть позже), возникла неисправность в стенде, который мы устанавливали в кабине вертолета. Стенд этот хранился на наземной полевой позиции БРК. Когда прилетал по нашей заявке вертолет, он садился на этой позиции, мы втаскивали свой стенд, я летал с ним, а по окончании работы вертолет снова садился на этой позиции и стенд вытаскивали. Он стоял в степи под открытым небом. Стенд был размером с большой стол, и на нём была смонтирована куча аппаратуры: бортовой прибор БРК, шлейфный осциллограф, приёмник сигналов единого времени, источники питания и разные мелочи. Все это соединялось большим количеством кабельных жгутов. Вот эти жгуты и погрызли вездесущие степные мыши. В результате что-то “коротило”, где-то нарушался контакт - работа была неудачной.
Была зима. Короткий день. Я после полета добрался до лаборатории уже затемно и доложил Юртайкину, что аппаратура неисправна, на завтра не надо заказывать вертолёт, а надо привезти стенд в лабораторию всё проверить и исправить. На что Юртайкин мне ответил: “Нет, товарищ лейтенант, мы не можем терять день. Езжайте сейчас и чините оборудование”. И я поехал.
Ночь. Мороз с сильным ветром, как обычно в Кап. Яре. Полная темнота, Открытая степь. Такие “благоприятные” условия для ремонта. Водитель мне светил фарами, которые всё тускнели, так как “садился” аккумулятор. Паяльник на холоде и ветру не нагревался, и я прятал его на груди, прикрывая полой куртки с риском прожечь одежду. Голые пальцы немели от мороза, ветра и ледяного металла. Зато - “стойко преодолевать тяготы и лишения…”
Кто-то может подумать, что это действительно было необходимо, но в том-то и дело, что нет. Что всё лишь ради этих самых “тягот и лишений”. Однажды Юртайкин даже где-то разыскал плакат, на котором было изображено, как солдаты по колено в грязи тащат пушку и написаны его любимые слова: ”Военнослужащие! Стойко переносите тяготы и лишения воинской службы”. Он повесил его в лаборатории. Но плакат провисел недолго. Как-то в лабораторию зашел подполковник Боков, который, по-моему, был тогда начальником технической позиции. Он увидел плакат и сказал: ” Что это ты тут повесил! Убери”. И Юртайкин вынужден был убрать. Но не забыл об этом. И нередко в дальнейшем, упоминая в разговоре с кем-нибудь из нас о необходимости стойко переносить…и т. д., говорил: ”Вот плакатик у нас хороший есть. Надо бы повесить”. Но повесить не решался.
Возвращаясь к круглосуточной жизни на площадке, должен упомянуть такой эпизод. Когда мы со Стеблиным изрядно надоели Юртайкину своими постоянными притязаниями жить не на площадке, а дома, он выложил аргумент, который, видимо казался ему неотразимым. Он сказал, что если мы хотим жить дома, то он исключит нас из приказа на работы “по заказу” и мы не будем получать надбавку к зарплате. И был поражен, когда мы охотно на это согласились.
Надо сказать, что в дальнейшем вопрос с этой надбавкой был упрощен. Её снизили до 10 % (а может быть 15? Сейчас уже не помню). И стали выплачивать постоянно - ведь пуски стали постоянными. Не платили только за то время, когда офицер уезжал с полигона в отпуск или в командировку. Наверное, поэтому эти деньги и у нас в Кап. Яре, и в Тюра Таме стали называть “пыльными”.
Организация работы офицеров-испытателей нашей лаборатории была несколько иной, чем в других испытательных отделах. Там обычно офицеры делились на тех, кто работает на технической позиции, и стартовиков. Это было естественно, так как объем испытаний и используемое оборудование на технической и стартовой позициях были разными. У нас же такой разницы почти не было, только объем испытаний на “техничке” был побольше. Поэтому, хотя у нас иногда и пытались ввести разделение по принципу “техничка” - старт, оно как-то не приживалось. Более естественным для нас было разделение на наземщиков и бортовиков. Вот это у нас существовало. Но тоже до известной степени. Иногда приходилось и не соблюдать это разделение, особенно в начале нашей службы в лаборатории. Потом, когда число людей в подразделении БРК увеличилось, такое разделение упрочилось. Я, в основном, работал бортовиком, то есть проводил испытания бортовых приборов БРК на техничке и на старте.
Колоссальное впечатление производили пуски ракет. Думаю, что сейчас уже никому не доводится испытывать таких ощущений. И вовсе не потому, что “раньше и сахар был слаще”. Несколько совершенно реальных причин. Во-первых, тогда ракеты стартовали с наземного стола, а не из шахты, и двойка (8Ж38) и “пятёрка” (8К51). Во-вторых, старт был не “миномётный”, скорость они набирали медленно, на первые 100 метров высоты ракета поднималась 5 секунд. И, главное, в-третьих, тогда не увозили всех наблюдателей за десяток километров от старта. Вообще никуда не увозили. После завершения всех проверок и подготовки ракеты все (кроме тех, кто производил непосредственно пуск, т.е. нажимал соответствующие кнопки на пульте в бункере, и начальства) отходили на расстояние, которое они сами считали безопасным, т.е. на сотню-другую метров от стартового стола, и оттуда наблюдали за пуском. И вот эти впечатления просто потрясали. Рёв двигателя, какой-то уже нерукотворный. Чувствуешь себя просто пигмеем, муравьём, нечаянно пробудившим какие-то дикие и могучие силы природы. А ракета, вначале почти зависшая, напряжённо-медленно, в этом диком рёве и пламени набирает высоту и всё ускоряясь несётся всё выше и выше, быстро превращаясь в точку, сопровождаемую характерным следом. Словами всё это передать трудно.
Бывали и аварийные пуски. Но в период моей службы полигону везло: жертв не было ни разу. Запомнилось несколько таких случаев. Однажды пуск производился в облачную погоду, что бывало не часто, потому что облачная погода сама по себе в Кап. Яре редкость, и, к тому же, ясное небо было нужно, чтобы могли работать кинотеодолиты. Облака на небольшой высоте закрывали всё небо, как плотное толстое одеяло. Ракета с рёвом проткнула это “одеяло”, и оно мгновенно из серого стало багровым от пламени двигателя. Рёв постепенно удалялся, и облака, меняясь в оттенках, тускнели. И вдруг рёв постепенно снова стал нарастать, а облака наливались багровым цветом и снова запылали. Ракета явно шла обратно на нас, а где она - не видно из-за облаков. И, казалось, - сейчас рухнет нам на головы. Но упала она далеко в стороне, не причинив никому и ничему никакого вреда, если не считать тех не слишком приятных секунд, что мы пережили.
В другой раз, на пуске “пятёрки”, после завершения предстартовых проверок мы отогнали нашу испытательную машину в капонир неподалеку от стартового стола. Ракета стартовала и тут же упала очень близко от нашего капонира и загорелась. Нам по связи дали команду ни в коем случае не высовываться из капонира, опасались взрыва. Но все кончилось спокойно. Ракета тихо и мирно догорела и никаких взрывов не было. Надо сказать, что если бы тогда ракеты заправлялись таким агрессивным и ядовитым топливом, как современные ракеты, вряд ли мы тогда так спокойно пережили бы в капонире этот случай. Но у этих ракет топливом был чистейший этиловый спирт, а окислителем - жидкий кислород. Вполне экологически чистые продукты.
А однажды был такой забавный случай (забавный сейчас, но когда он произошёл, то было не забавно, а совсем наоборот - холодок по коже). Пуск проводил какой-то приезжий ракетный дивизион. По пятиминутной готовности, как положено, кислородный заправщик отошёл от стартового стола. (Кстати, тоже очень красивое зрелище – ракета, заправленная жидким кислородом. По длине всего кислородного бака - а это почти пол ракеты - корпус ракеты покрыт толстым слоем белого инея. Кислород интенсивно испаряется, поэтому ракета до последних минут подпитывается жидким кислородом, и только по пятиминутной готовности заправщик отходит). Воцарилась тишина, и только парила покрытая толстой белой шубой ракета. Наконец пусковые команды: “Дренаж!” “Главная!” Под ракетой появился огонь и… И ничего не произошло. Огонь угас, и только тихо парит ракета. Все онемели. По-моему, такого никто никогда раньше не видел, и никто не знал что делать. Наконец, после изрядного замешательства, кто-то из офицеров-двигателистов отважился подойти к ракете. Представляю себе его ощущения, когда он шёл. Немалое мужество тут потребовалось. А в итоге оказалось, что номер расчета дивизиона, солдат, установил ЖЗУ (жидкостное зажигающее устройство) не тем концом. Он, якобы, не был уверен как надо, кого-то спросил, но от него отмахнулись, он и поставил, как ему казалось правильным. Я не двигателист, но у меня сложилось впечатление, что наши специалисты даже не представляли, что ЖЗУ можно поставить как-то не так, и оно не подожжёт двигатель.
К счастью, все эти аварии при мне не приводили к трагедии, никто не только не погиб, но даже и не пострадал. Счёт потерям открыл Тюра-Там. Да ещё как открыл! Начал сразу не с единиц, а с многих десятков жертв.
Я уже говорил, что в первое время особых мер безопасности на старте не принималось. Это не значит, что их совсем не было, но отсутствие каких-либо “ЧП” видимо расслабляло, создавало видимость безопасности работ. Обычно на старте было полно народу, даже тех, кто в данное время там не нужен, или вообще закончил свои работы и давно с удовольствием бы уехал. Но! Уехать-то не на чем. Вероятно, проблемы безопасности казались руководителям несколько надуманными что ли, а вот дефицит транспорта был жестокой реальностью. Так и я, проводил автономные испытания своих бортовых приборов, потом участвовал в комплексных, и дальше мне делать было нечего. Но приходилось ждать, когда пройдёт пуск и тогда уже уезжать вместе со всеми. Кстати, тут уж надо было не зевать. Чуть проморгал - и автобусы мгновенно заполнились и ушли. И делай что хочешь. Выбраться самостоятельно и как-то добраться до городка было крайне трудно. Старт в стороне от основной бетонки. Да и на основной бетонке голосовать - унылое дело. Машины там проходят крайне редко, да и не всякая возьмёт.
Когда подготовка пуска шла нормально, то ждал я не так уж долго. От завершения комплексных до старта ракеты проходило не так уж много времени. Но “бобы”! У кого-то что-то не ладится, а все сидят. Иногда сутками. Те, у кого проблемы, и руководители идут в “банкобус”, долго и горячо обсуждают, что делать. Остальные ждут.
С лёгкостью написал эти слова: “бобы”, “банкобус” и подумал вот о чём. Кап. Яр был первым ракетным полигоном и, вероятно, поэтому родившаяся там терминология (от официальной до жаргона) потом распространилась на все полигоны и ставшие впоследствии многочисленными ракетные войска. Например, в любой ракетной дивизии, как и в Кап. Яре, десятая площадка - это городок, тринадцатая - кладбище и т. д. Хотя там и площадок-то столько нет (не считая стартовых позиций). Происхождение же жаргонных терминов, как и любое фольклорное творчество, трудно проследить. Почему неисправности - это “бобы”? Бог весть. Но как появились некоторые из этих терминов - история сохранила. Например, “банкобус”. Он от слова “банковать”, т.е. обсуждать какую-то проблему (вот откуда “банковать” - не знаю). А произошёл оттого, что раньше на старте кроме стартового стола и технологического оборудования ничего не было. И когда возникали проблемы и надо было обсудить, что делать, то представители промышленности вместе с соответствующими военными шли в автобус, на котором приехали на старт, и там “банковали”. Отсюда логично - “банкобус”. Потом, когда на старте появились всевозможные помещения, в том числе и залы для совещаний, они, естественно, сохранили то же название.
Длительное пребывание на старте было неприятно ещё и тем, что ни поесть, ни поспать было негде. Голодовку приходилось терпеть, а чуть подремать - притыкались кто где мог. Запомнилось, как однажды ночью несколько офицеров дремали на стульях у стены в банкобусе, и один только Толя Швыряев сидел у стола и, кажется, решал шахматную задачу. В этот момент в банкобус вошёл начальник управления полковник Калашников. Окинув взглядом живописную картину, он продекламировал: “Весь табор спит, не спит Алеко”.
Эти долгие ожидания на старте оставили свои впечатления настолько, что много лет спустя, когда я уже жил в Москве, мне приснился такой сон. Будто я на старте. Пуск под самый Новый год. Все надеялись после пуска уехать домой и праздновать там Новый год, но - “бобы”! Ночь, Новый год, а мы бессмысленно торчим в степи и не знаем, как скоротать время. И кто-то предложил сочинить песню. Я сказал, что если кто-нибудь придумает мелодию, я могу сочинить слова. Все стали думать. То один, то другой подходили ко мне и напевали какую-нибудь мелодию. Но мне всё не нравилось. Наконец один подошёл, поднёс к губам какой-то странный инструмент в виде деревянной рогульки с торчащими во все стороны концами и натянутыми между ними струнами, и заиграл мелодию, которая звучала почему-то так, как будто исполнялась на каком-то духовом инструменте. Мелодия мне очень понравилась. Я даже усомнился:
- Неужели это ты сам сочинил?
- Да, сам.
Потом, когда я проснулся, оказалось, что это мелодия песни “Надежда” Александры Пахмутовой, но во сне я этого не знал. И тогда я стал сочинять слова. Когда проснулся - помнил только начало сочинённой мной песни. И то, наверное, потому что сразу повторил его про себя. Ведь сны мгновенно улетучиваются. Начало было такое:
|
Снег лежит в далеких городах, А у нас опять песок, да ветер, Но не променяем никогда Город свой мы ни на что на свете.
Здесь людей, не кончивших войну, Валит с ног не от вина и водки. В клочья рвут степную тишину Небывалых двигателей глотки.
На карте его не найти - Не любит мой город рекламы, Но в космос далекий пути Через эту степь проходят прямо.
|
Было ли что-нибудь дальше - не знаю, не помню, но это был первый случай, когда я сочинил стихи во сне. Потом такое случалось со мной ещё раз или два.
Так же на старте я почти прозевал важнейшее событие в моей жизни. В начале августа 1955 года я несколько суток проторчал на старте. Моя жена, Рита, была беременна, и вот-вот должен был родиться ребенок. Когда я 9-го вечером вернулся наконец домой, то дома нашёл только записку “Ушла в родильный дом”. Я помчался туда. Мне сказали, что да, такая поступила, ещё не родила. 10-го родился мой сын, Серёжа. В его метрике, а теперь в паспорте, в графе “Место рождения” скромная, но, по-моему, очень знаменательная запись: “Село Капустин Яр, Астраханской области”.
 Кстати, отмечу, что родильный дом в Кап. Яре (в
городке) размещался в обычном двухэтажном доме, каких было множество в городке,
построенным как жилой и как-то переоборудованном под родильный дом, и то не
полностью – только один подъезд. Вот он на фото, сделанном много позже (когда я
приезжал на юбилей полигона).
Кстати, отмечу, что родильный дом в Кап. Яре (в
городке) размещался в обычном двухэтажном доме, каких было множество в городке,
построенным как жилой и как-то переоборудованном под родильный дом, и то не
полностью – только один подъезд. Вот он на фото, сделанном много позже (когда я
приезжал на юбилей полигона).
С рождением Серёжи связан один забавный эпизод. В Кап. Яре вода была на вес золота. Днём в городке в домах воды не было, вся уходила на полив. Но люди относились к этому с пониманием, потому что благодаря постоянному поливу деревьев, городок был маленьким оазисом в раскаленной, выгоревшей степи. Естественно, что из-за дефицита воды и цветы в городке были колоссальным дефицитом, ведь без полива они там не росли, а поливать было нечем. Но кое-где энтузиасты как-то ухитрялись всё же их выращивать. Когда родился Серёжа, я где-то встретился с Алексеевым Алексеем Ивановичем, который был в ту пору капитаном и работал в отделе телеметрии, где работала Рита. Я сказал ему, что у нас родился сын, и завтра я иду за ними в родильный дом. Он попросил поздравить Риту и вручить ей цветы. Я, естественно, возразил - где же я их возьму! А он сказал, что он около своего дома вырастил небольшую клумбу, и я могу там нарвать. Рассказал мне, где он живёт. Я выразил сомнение - меня же женщины, которые обычно сидят во дворе, убьют, если я начну рвать цветы на клумбе. Он говорит: “А Вы скажите, что Алексей Иванович разрешил. Они знают, что это я вырастил”. На следующий день перед тем как идти в родильный дом я зашёл в указанный мне двор и на глазах у сидящих рядом женщин принялся рвать цветы. Ожидал, что они сейчас возмутятся, набросятся на меня, а я объясню, что мне Алексей Иванович разрешил. Но они молча смотрели на меня, ошеломлённые моей наглостью. Надо было пожить в Кап. Яре в 1955 году, чтобы понять, что такое каждый цветочек и оценить всю степень такой наглости. Я набрал небольшой букет и удалился. Как у классика “народ безмолвствовал”. Самое смешное выяснилось позже. Оказалось, что я перепутал кварталы и нарвал цветов не на клумбе Алексеева, а в совершенно постороннем дворе.
Но вернусь к основной линии моего повествования (если она есть, эта линия). Когда мы услышали по радио и прочли в газетах сообщения о том, что “при исполнении служебных обязанностей в результате авиационной катастрофы” погиб Главнокомандующий Ракетными войсками маршал Советского Союза Митрофан Иванович Неделин, то сначала, несмотря на некоторую странность формулировки, ничего не заподозрили. Тогда в официальной информации хватало странных и при этом невероятно устойчивых формулировок. Если, например, в первом официальном сообщении было сказано: “и примкнувший к ним Шипилов”, то потом во всех многочисленных публикациях на эту тему, выступлениях различных официальных лиц и даже на партсобраниях эта формулировка не изменялась ни на букву. Не дай бог было сказать, например, “и присоединившийся к ним Шипилов” - а вдруг это политическая ошибка! Такое было время. Шутили даже, что для русского языка характерны постоянные эпитеты: “красна девица”, “добрый молодец”, “и примкнувший к ним Шипилов”. Нынешним поколениям этого, вероятно, не понять - и слава богу!
Так вот. Я и все меня окружавшие решили, что маршал Неделин разбился где-то на самолете. А «при исполнении служебных обязанностей»- маршал всегда «при исполнении». Но, когда через день или два мы проводили очередной пуск и приехали на старт, то увидели, что обстановка там разительно изменилась. При входе на позицию надо снимать номерной жетон, при выходе - вешать его обратно. Всех, кто не занят в текущих операциях со старта удаляют, и даже (о, чудо!) отработавших свои задачи сажают в автобусы и увозят. Откуда только автобусы нашлись!
Всё это сразу же привело нас к мысли, что не в авиационной катастрофе погиб Митрофан Иванович. А вскоре по многочисленным своим каналам (офицеры, командированные в Тюра-Там и оттуда, промышленники, которые связаны с обоими полигонами), мы уже знали много об этой ужасной катастрофе.
Не мне её описывать, у меня информация вторичная, я знаю всё по рассказам ребят с того полигона и промышленников, но такое количество жертв в этом огненном аду (среди которых были и мои знакомые - люди с нашего полигона) и, прямо скажем, дурацкая причина катастрофы произвели страшное впечатление. Вот что такое излишний “пиетет” перед промышленниками! Мне рассказывал один офицер с полигона Тюра-Там, который был в бункере во время этого злосчастного пуска, что когда в ответ на доклад оператора о том, что ПТР не на нуле, женщина, инженер из КБ “Южное”, дала команду прокрутить его, он подумал, что этого, наверное, нельзя делать, ведь ракета заправлена и пусковая схема уже набрана, но был не уверен и считал, что разработчики ракеты лучше знают, что можно, и не решился громко запротестовать.
Для тех, кто далёк от этой техники, поясню: ПТР - это программный токораспределитель, один из элементов автоматики ракеты. По существу, это кулачковый механизм с контактами, который вращается и подаёт в определённое время необходимые команды различным системам ракеты. В процессе технологической подготовки, проверки ракеты, его часто вращают (а крутится он вкруговую) и ставят в какие-то положения, соответствующие той или иной секунде полёта. Когда же на уже подготовленной к пуску ракете он оказался не в нулевом положении, и его прокрутили, он и начал выдавать свои команды с того положения, в котором находился. И, соответственно, запустил двигатель второй ступени, который развалил первую ступень, и возник пожар. Наверное, это даже неправильно называть пожаром, тут нужно какое-то другое слово. Когда разлилось ракетное топливо вместе с окислителем и всё это пылает, то слово пожар, по-моему, слишком слабо, чтобы выразить всю мощь и ужас этой огненной стихии.
Неблагодарное это дело – гадать «что было бы, если бы…», но думаю, что если бы за пультом сидел спецнаборовец, никакой катастрофы бы не было. Ну, не было у нас такой болезни - «промышленники лучше знают»! Я уже писал, что мы были «одной крови» с разработчиками, наш уровень подготовки давал нам уверенность, позволял критично относиться к решениям промышленников. И, может быть, спецнаборовец просто сказал бы, что сейчас это делать нельзя, всё бы поправили корректно и об этой дурацкой команде Янгелевской инженерши давно бы забыли, а если бы и вспоминали, то только с юмором. Но что было – то было.
Теперь в Тюра-Таме (у городка полигона теперь есть и другое название - город Ленинск) есть улица Носова. Это в моей жизни единственный случай, когда именем человека, с которым я был знаком, названа улица в городе. Александр Иванович Носов, прекрасный человек. Был начальником первого отдела нашего испытательного управления.
Особое место в начале моей службы на полигоне заняла Уральская “эпопея”. Вообще-то говоря, она была лишь частью большой работы, которая началась ещё в Кап. Яре, но была настолько яркой и богатой событиями и впечатлениями, что до сих пор воспринимается мной как что-то самостоятельное, оторванное от остальной службы.
А начиналось всё вот с чего. При проведении пусков ракет с системой БРК вскоре было замечено, что имеются систематические отклонения ракет от заданной цели влево или вправо, зависящие от выбранной позиции наземной станции БРК. Логично было предположить, что рельеф местности как-то влияет на диаграммы направленности антенн, что приводит к искажениям равносигнальной зоны и, соответственно, к отклонению ракеты от плоскости стрельбы. Но как влияет? Какие параметры местности и в какой степени вызывают эти отклонения? Какие искажения ещё допустимы и какие требования должны предъявляться к рельефу местности при выборе позиций БРК?
Конечно, существовала инструкция Главного конструктора системы БРК по выбору позиций, но сделана она была, - боюсь даже сказать, что на основе теоретических данных, так как теория тут чрезвычайно сложна, - скорее на основе инженерной интуиции и волевых решений с возможным учётом теории. Результаты пусков показали, что инструкция весьма несовершенна и не гарантирует заданной точности попадания ракеты в цель. Поэтому, незадолго до нашего прибытия на полигон началась совместная работа НИИ-885 (разработчиков БРК), НИИ-4 МО и полигона по определению требований к рельефу местности для позиций БРК. Конечным результатом этой работы должна была стать новая инструкция по выбору позиций наземного комплекса БРК.
Поначалу работа шла ни шатко, ни валко. На полигоне заниматься ей по-настоящему было некому, а “промышленники” не очень-то были в ней заинтересованы. От НИИ-885 на это дело был брошен инженер Иванов (не помню его имени), который запомнился нам тем, что в столовой заказывал: “Всё меню сверху донизу и два чая”. Он делал первый бортовой стенд, и он начинал полёты на вертолёте. Но Иванов бывал на полигоне наездами, стенд был очень несовершенен и без конца отказывал, и работа еле двигалась. Но потом всё изменилось. На полигон прибыло полнокровное подкрепление - спецнабор, и в плане работ полигона появилось большое количество серьёзных НИР. В том числе, в план были включены две научно-исследовательские работы: НИР-122 и НИР-125. Первая из них по определению требований к позициям наземного комплекса БРК-1, а вторая - БРК-2. Руководителями этих работ были назначены я (НИР-122) и Эдик Стеблин (НИР-125).
Забегая вперёд, хочу сказать, что когда эти две огромные, я бы даже сказал, с позиций моего современного знания и опыта, уникальные научно-исследовательские работы были закончены, и Главному конструктору, М.И.Борисенко, было предложено подписать новую инструкцию по выбору позиций, он отказался. И, используя право второй подписи, утвердил первоначальную инструкцию, так как понимал, что новая инструкция - это смерть для его системы. Позиции, отвечающие её требованиям, найти было крайне трудно в реальных местах, где предполагалось развертывание этих ракет. Я думаю, что Михаил Иванович понимал, что требования к позициям определены правильно, но не мог губить свою систему. Ведь с объективными экспериментальными данными, полученными в ходе этой работы, поспорить было невозможно. Но он, вероятно, полагал, что до боевого применения этих ракет не дойдёт, а если и дойдёт - кто тогда сможет оценить точность попадания ракет в цель (конечно, это мои предположения) и, как человек весьма решительный, о чём я уже говорил, так же решительно перечеркнул результаты огромной работы массы людей и вряд ли задумался о немалых средствах, которые в результате его второй подписи оказались затраченными впустую. В Советском Союзе об этом, по-моему, вообще никто не думал.
Ну, а когда начиналась эта работа, никто не предполагал, что она окажется невостребованной.
Начиналась она как сугубо экспериментальная. Был изготовлен стенд с комплектом бортовой аппаратуры БРК, выходной сигнал которой писался на шлейфный осциллограф. Этот комплект устанавливался на вертолет. На исследуемой позиции развертывался наземный комплекс БРК. Вертолет совершал виражи на разных высотах вблизи условной плоскости стрельбы и при этом фотографировался с земли кинофототеодолитами. С помощью дополнительного оборудования метки времени, соответствующие каждому кадру кинофототеодолитной съёмки, посылались на борт и также записывались на шлейфный осциллограф вместе с выходным сигналом БРК. Таким образом можно было определить величину и знак выходного сигнала бортового прибора БРК для каждого положения вертолёта (т.е. в плоскости стрельбы и при различных отклонениях от нёё) разумеется, при соответствующей совместной обработке осциллограмм, кинотеодолитных плёнок и лент времени кинотеодолитов.
В принципе просто. Но, как всегда бывает, даже несложная в принципе вещь обрастает массой проблем и сложностей, когда осуществляется её практическая реализация. Так было и здесь. Как передать метки времени кинотеодолита на борт вертолёта? На земле нужен какой-то передатчик и устройство сопряжения его с кинотеодолитом. На борту нужен приемник и тоже устройство сопряжения со шлейфным осциллографом. А к этому приёмнику нужна ещё антенна, что не так уж просто сделать на вертолёте. Кроме того, оператор на борту вертолёта не знает, в какой момент вертолёт входит в плоскость стрельбы, и не имеет возможности своевременно включать и выключать шлейфный осциллограф. Постоянно включенным его держать, естественно, нельзя, так как бумаги в кассетах осциллографа всего на несколько минут. Следовательно, нужна система автоматического включения и выключения осциллографа. И ко всему этому хозяйству нужно ещё электропитание, причем питание каждому своё и всем разное. Словом, проблем было предостаточно.
Мы со Стеблиным со свежими институтскими знаниями значительно усовершенствовали бортовой стенд, который начинал делать ещё Иванов, и всю технологию экспериментов и сравнительно быстро отладили всю работу.
Вначале предполагалось, что будут исследованы различные типы позиций, и будет определено, где возникают недопустимые искажения равносигнальной зоны. Но вскоре оказалось, что закономерность измеренных практически искажений в зависимости от различных параметров местности не просматривается. А ведь обмерить все возможные варианты позиций невозможно! Пришлось серьёзно взяться за теорию в одной из самых непростых областей радиотехники - распространении радиоволн. Огромный том “Распространение радиоволн” Альперта, Гинзбурга, Фейнберга стал нашей настольной книгой.
Пришлось также прибегать к помощи ученых из НИИ-4 и НИИ-885, которых, в свою очередь, привлекал ценнейший экспериментальный материал. Для них это была редкая возможность, так как для получения таких экспериментальных данных необходимо привлечение очень большого количества техники, людей, материальных средств, что в обычных условиях нереально, но в данном случае всё было выделено, ведь на развитие ракетной техники средств тогда не жалели. Но и нам от контактов с ними была немалая польза. Это очень нам помогало в теоретическом осмыслении полученных результатов и определении направлений дальнейших экспериментов.
Как-то потом мы с Эдиком подсчитали, что на наших материалах защитили докторские и кандидатские диссертации человек пять-шесть. В том числе и наш начальник первого испытательного управления, тогда полковник, а впоследствии генерал, Калашников Алексей Сергеевич. Только он получил звание кандидата технических наук уже позже, году в 1965-66, когда я уже работал в ГУРВО (Главное управление ракетного вооружения), в Перхушково, под Москвой. Он работал там же и решил защитить диссертацию “по совокупности трудов” - была тогда такая возможность для получения учёных званий, которой пользовались обычно крупные руководители. Калашников попросил меня дать ему материалы по этой работе, видимо, использовал их наряду с другими и успешно “защитился”. Мы же со Стеблиным учёных званий за эту работу не получили. Эдик, правда, стал кандидатом технических наук, но диссертацию защищал совсем по другой теме, когда он уже работал в НИИ-4. Я же и не делал таких попыток, хотя Калашников рекомендовал мне это, когда я давал ему материалы. Он справедливо отметил, что такими интересными результатами мало кто располагает.
Вертолёты в 1954 -55 годах были ещё в диковинку и привлекали всеобщее внимание. Поражала их возможность сесть в любом месте. Похоже, что и для лётчиков, которых совсем недавно переучили на вертолётчиков, эта особенность была непривычной и они ей как бы щеголяли что ли (не подберу нужного слова), проявляя иногда озорство. Например, однажды, после выполнения работы лётчик спросил нас: “Где вас высадить?”. Мы уже опаздывали на обед и сказали, что где-нибудь, откуда не очень далеко до столовой. Так он ухитрился сесть на крохотном пятачке среди домов прямо перед столовой на второй площадке, вызвав всеобщий переполох. В другой раз сел рядом с хоккейной площадкой - мы с Эдиком играли в хоккейной команде части, и нам надо было успеть на игру. Ещё раз, во время весеннего разлива - а до постройки Волгоградской плотины разливы были великолепным зрелищем, Волга сливалась с отстоящей от неё на 20 километров Ахтубой, образуя бескрайнее для глаз море - лётчик выбрал в этом море крохотный островок, диаметром метров 20 и сел на него. Когда я спросил зачем, он сказал, что ему надо портянку перемотать. Но, по-моему, ему было просто интересно. А когда мы работали на Урале, совсем с другим экипажем, на них пожаловались, что однажды, когда, как обычно, севший вертолёт окружили местные жители (а это тогда были на 90% женщины) и попросили прокатить, те, якобы, посадили кучу женщин, отлетели километров на 100, там сели, а когда женщины вышли, чтобы посмотреть местность, неожиданно взлетели и умчались. Уж не знаю, правда ли это, но похоже на правду. У лётчиков царствовал такой стиль - этакая бесшабашность, озорство, всякие шуточки, “приколы” - как сейчас бы сказали. Может быть эта бесшабашность, даже напускная, позволяла им легче переживать немалый риск, связанный с их профессией. Особенно с профессией вертолётчика, тем более в те годы, когда вертолёты были еще не отработаны и нередко разбивались. Мы узнавали об этом по косвенным признакам: объявлялся запрет на вылеты вертолётов (мы летали на Ми-4). А через некоторое время наш вертолётчик нам сообщал - это такой-то там-то разбился. Они все где-то в одном месте проходили переподготовку на вертолёты, и все друг друга знали. Потом проводились какие-то доработки и полёты возобновлялись. Очень неприятной особенностью вертолёта было (и, наверное, остаётся до сих пор) то, что в случае аварии из него практически невозможно выпрыгнуть с парашютом. Ведь самолёт при аварии обычно ещё какое-то время планирует, вертолёт же камнем идёт вниз, кувыркается и рубит винтом всё вокруг себя. Помню, как лётчик нас инструктировал: “Если в полёте я дал гудок - не выясняйте в чём дело, не озирайтесь кругом, не пытайтесь кого-то о чём-то спросить - немедленно выбрасывайте дверь (там есть выброс внутреннего обвода двери двумя ручками на случай аварии) и выпрыгивайте”. Помолчал и добавил: “Впрочем, это ещё никому не удавалось”. Однако, парашюты на нас всегда были надеты, и раз в месяц приходилось ездить во Владимировку (ныне город Ахтубинск, полигон ВВС) на их переукладку.
 Насколько я знаю, лётчики сами переукладывают
свой парашют. Но мы ведь этого не умели и не знали, как это надо делать.
Поэтому, когда я приезжал во Владимировку, мой парашют переукладывал опытный
авиационный старшина, а я должен был смотреть и потом расписываться в том, что
мой парашют уложен правильно. Поначалу я расписывался, просто доверяя старшине,
так как не понимал, как правильно он должен быть уложен. Но после нескольких
переукладок я освоил это не очень сложное дело и стал понимать, как должен быть
уложен парашют, но всё же сам не укладывал, продолжал полагаться на старшину.
Насколько я знаю, лётчики сами переукладывают
свой парашют. Но мы ведь этого не умели и не знали, как это надо делать.
Поэтому, когда я приезжал во Владимировку, мой парашют переукладывал опытный
авиационный старшина, а я должен был смотреть и потом расписываться в том, что
мой парашют уложен правильно. Поначалу я расписывался, просто доверяя старшине,
так как не понимал, как правильно он должен быть уложен. Но после нескольких
переукладок я освоил это не очень сложное дело и стал понимать, как должен быть
уложен парашют, но всё же сам не укладывал, продолжал полагаться на старшину.
Вот на снимке я в шлемофоне и с пристёгнутым парашютом у вертолёта перед вылетом.
Нам повезло. Я налетал на вертолётах за два с лишним года больше трёхсот пятидесяти часов и в катастрофу ни разу не попал. Правда, отдельные неприятные случаи, так сказать, “на грани” были.
 Однажды, когда мы только загрузились в вертолёт и
он начал набирать высоту, Эдик Стеблин, крутясь вокруг аппаратуры, задел
парашютом ручку двери, которую он же, войдя последним, не законтрил по своей
рассеянности. Дверь под действием набегающего воздушного потока с треском
распахнулась, ударила по выпуклому блистеру, который разлетелся на куски, а
Эдика, видимо тем же потоком, выбросило в дверь. Но он (спортивный всё-таки
парень!) успел, бросив в стороны руки, упереться в края дверного проёма. Мы с
солдатом-радистом, который тогда летал с нами, схватили его и втащили обратно в
кабину. Тем временем лётчики, почувствовав динамический удар, срочно посадили
вертолёт. Высоты-то было ещё метров 50. Если бы Эдик не уцепился, парашют он
раскрыть бы не успел. Интересно, что с той поры ближайший к двери блистер на
Ми-4 стали делать не выпуклым, как остальные, а плоским. Так что, похоже, и мы
внесли свою лепту в доработку Ми-4.
Однажды, когда мы только загрузились в вертолёт и
он начал набирать высоту, Эдик Стеблин, крутясь вокруг аппаратуры, задел
парашютом ручку двери, которую он же, войдя последним, не законтрил по своей
рассеянности. Дверь под действием набегающего воздушного потока с треском
распахнулась, ударила по выпуклому блистеру, который разлетелся на куски, а
Эдика, видимо тем же потоком, выбросило в дверь. Но он (спортивный всё-таки
парень!) успел, бросив в стороны руки, упереться в края дверного проёма. Мы с
солдатом-радистом, который тогда летал с нами, схватили его и втащили обратно в
кабину. Тем временем лётчики, почувствовав динамический удар, срочно посадили
вертолёт. Высоты-то было ещё метров 50. Если бы Эдик не уцепился, парашют он
раскрыть бы не успел. Интересно, что с той поры ближайший к двери блистер на
Ми-4 стали делать не выпуклым, как остальные, а плоским. Так что, похоже, и мы
внесли свою лепту в доработку Ми-4.
Вот эта наша «рабочая лошадка» - Ми-4 (снимок сделан на Урале).
В другой раз, уже на Урале, был такой случай. В полете на высоте порядка 1500 метров кабина вдруг стремительно стала наполняться дымом. Первая мысль, которая у меня мелькнула, что, возможно, где-то короткое замыкание в нашем стенде. Схватил кабель, который шёл от сети бортпитания к стенду - но он был холодный. Оглянулся на розетку бортпитания - а от неё, как дуга электросварки - сноп искр. Да ещё прямо на бочку с бензином! Поскольку мы работали в отрыве от базы, в кабине была установлена дополнительная бочка с бензином. Я вырвал вилку из розетки, а летчики, до которых тоже дошёл дым, стремительно, чуть ли не на авторотации, посадили машину. Оказалось, что виноват я. В бортсети вертолета, чтобы не спутать плюс с минусом, используются вилки, у которых одна ножка толстая, а другая тонкая. Когда я делал соединительный кабель нашего стенда, у меня таких вилок не было, зато были вилки из наших спецмашин. Они точно такие же, но обе ножки тонкие. Такая вилка нормально втыкается в розетку бортпитания и вроде бы обеспечивает нормальный контакт. Но при вибрациях в полете контакт, видимо, искрил, карболит розетки подгорал, и наконец возникла настоящая Вольтова дуга. Это было мне хорошим уроком.
Но самый опасный случай произошёл в конце нашей работы на Урале. Вот тогда нас, похоже, спасло действительно чудо. Было так. Прилетел из Челябинска, где он базировался, к нам на позицию вертолёт. Пока мы загружали аппаратуру, вертолётчики что-то суетились вокруг машины, всё осматривали, словом, вели себя как-то необычно. Мы уже загрузились, а они всё лазают по разным местам вертолёта. Я спросил в чём дело, и они мне сказали, что когда подлетали к нам, машину как-то странно и сильно тряхнуло. Борттехника, который обычно летал с нами, они с собой в этот раз почему-то не взяли. Ничего не обнаружив, вертолётчики приняли решение начать работу. Мы взлетели. Всё шло как обычно, но один раз я ощутил резкий удар. Как будто по вертолёту ударили каким-то бревном. Когда мы сели, вертолётчики сказали, что вот такой же удар был и когда они летели к нам. Мы выгрузились, и вертолёт улетел в Челябинск. А на следующий день мы ждали вертолёт, но он не прилетел. У нас всё было готово к работе. Погода была хорошая, высокая облачность, что бывает не так уж часто на Урале и было очень важно для нашей работы, а вертолёта нет. Не было его и на следующий день, и ещё на следующий Пропал. Поехали в Челябинск выяснять в чём дело. Встретились там с экипажем и узнали, что когда они летели обратно, их ещё раз так же тряхнуло. Приземлившись, они, естественно, сказали обо всём этом борттехнику. Тот осмотрел машину и, как он рассказывал, пришёл в ужас. Какая-то важнейшая деталь - сейчас уже не помню, чуть ли не винт - крепится на четырёх болтах. Когда они летели к нам, один из этих болтов лопнул. Не выдержав увеличившейся нагрузки, во время рабочего полёта лопнул второй, а при возвращении третий. Каким образом единственный оставшийся болт держал ещё какое-то время учетверённую нагрузку понять невозможно. Как сказал борттехник, вероятность не гробануться была примерно такая же, как выиграть в лотерею миллион, не имея при этом ни одного лотерейного билета, а только трамвайный. Однако, пронесло.
 За время работы в Кап Яре прикреплённый к нам
вертолёт выработал ресурс и стал на длительный ремонт. Другого вертолёта не
было, и нам дали вместо него самолёт, Як-12. Это была лёгкая, даже не
металлическая, а обтянутая перкалью двухместная машина, в которой было ещё 2
места, но их можно было использовать только при неполной заправке горючим. Вот
на фото этот почти игрушечный самолётик (правда не тот экземпляр, на котором мы
летали – фото из интернета).
За время работы в Кап Яре прикреплённый к нам
вертолёт выработал ресурс и стал на длительный ремонт. Другого вертолёта не
было, и нам дали вместо него самолёт, Як-12. Это была лёгкая, даже не
металлическая, а обтянутая перкалью двухместная машина, в которой было ещё 2
места, но их можно было использовать только при неполной заправке горючим. Вот
на фото этот почти игрушечный самолётик (правда не тот экземпляр, на котором мы
летали – фото из интернета).
Самолёт внёс в нашу работу немало дополнительных проблем. Садился он не на полевой позиции БРК, а на аэродроме (который в Кап. Яре носил громкое название: “Конституция”), поэтому приходилось каждый раз привозить и увозить бортовой комплект аппаратуры. Разместить её в Як-12 было сложно. Я складывал сиденье, расположенное рядом с лётчиком, и садился на его спинку спиной к направлению полёта, а на дополнительные два сиденья, которые были расположены сзади наших и чуть ниже, ставил аппаратуру, которую пришлось изрядно перекомпоновать, так как наш стенд здесь не помещался. Работать приходилось согнувшись в три погибели и, к тому же, одному, что осложняло дело, так как одному уследить за всей аппаратурой было трудно, на вертолёте мы работали вдвоём. Кроме того, эту лёгкую машину нещадно болтало, особенно на высотах кучевой облачности (примерно от 500 до 1500 метров). Болтанка была такая, что казалось - сейчас башкой пробьёшь этот перкаль и вылетишь наружу. Держаться-то ведь нечем - руки заняты, нужно работать с аппаратурой. Сначала мы с Эдиком Стеблиным планировали летать по очереди, но сразу же выяснилось, что этому есть серьёзное препятствие. Первый же полёт Эдика кончился очень быстро. Уже через полчаса самолёт прервал работу и, не отвечая на наши запросы с земли, вернулся на аэродром. Из самолёта вылезли зеленый Эдик и злющий лётчик. Оказалось, что та красивая поза, которую приходилось принимать во время работы - пятая точка выше головы - в сочетании с болтанкой привели к тому, что Эдика вывернуло наизнанку. А самолёт внутри и снаружи, от носа до хвоста покрыт тем, что из Эдика вывернуло. Лётчик страшно матерится: “Я ему говорил - трави в кабину, а он всё старался в окно. А там же скоростной поток! Всё и покрыло как из пульверизатора”. Но работу-то делать надо! Пришлось лететь мне. А в самолёте от одного запаха чуть не выворачивает.
Эдику было, видимо, неудобно, что из-за специфики его организма вся эта не слишком приятная работа свалилась на меня, и он делал ещё пару попыток, пробуя разные варианты - то на голодный желудок, то с конфетами - но результат был тот же. Тогда я сказал ему, что лучше я буду летать каждый раз, но в чистом самолёте, чем героически преодолевать последствия его не менее героических попыток.
В период работы на Як-12 был такой запомнившийся мне эпизод. Во время работы мы вдруг перестали получать метки времени. Для их приёма мы использовали штатную антенну самолета, натянутую от кабины до хвостового стабилизатора. Я посмотрел и увидел, что вывод антенны оборвался. Сказал об этом лётчику. Он хотел возвращаться на аэродром. Но, поскольку мы были довольно далеко от аэродрома, возвращение заняло бы много времени. Кроме того, пришлось бы дозаправляться горючим. В итоге мы бы не успели закончить работу. Я предложил лётчику сесть прямо тут и починить антенну - степь то ровная. Ведь и аэродром был грунтовый, никаких бетонных дорожек тогда на «Конституции» не было, просто ровная степь. Лётчик сомневался, но я уговорил его. Он выбрал полосу для посадки и несколько раз пролетел над ней на небольшой высоте, мы оба внимательно осматривали землю. Всё было в порядке. Мне даже показались эти предосторожности излишними, я ведь много ходил и ездил по степи и видел, что она вся как аэродром - плоская и ровная. Наконец мы пошли на посадку. Самолёт уже почти касался колёсами земли, как вдруг мы увидели, что впереди поперек нашей полосы - довольно глубокая канава. Лётчик едва успел взять ручку на себя и, высказав в мой адрес множество всяких слов, из которых и пару здесь нельзя привести по соображениям приличия, полетел на аэродром. На меня же это всё произвело сильное впечатление. Причём даже не то, что мы были в каком-то шаге от гибели - об этом я подумал уже потом, а то, насколько сверху невозможно разглядеть в степи канаву. Да и вообще - откуда она там взялась?
В Кап Яре в ходе нашей работы были исследованы возможные типы позиций БРК, которые можно найти в степи - а это, преимущественно, различные уклоны местности. Но невозможно было найти то, чего там нет - водные пространства, холмы (тем более горы), леса, снега. А такие факторы ожидались в предполагаемых районах развёртывания системы (в частности - Карпаты). Поэтому было принято решение организовать экспедицию в район, где всё это есть. И чей-то указующий перст остановился на Урале. Район, действительно, во всех отношениях подходящий. Так и началась эта самая Уральская эпопея.
Лаборатория наша к этому времени пополнилась. “Царствовавший” в ту эпоху Никита Сергеевич Хрущёв был человеком крайностей, чуждым осторожным, взвешенным решениям (что, по моим наблюдениям, вообще характерно для нашей страны). По достоинству оценив новый перспективный вид оружия, баллистические ракеты, он, видимо, решил, что авиация и флот теперь потеряли значение, и ретиво принялся их сокращать. Ребята из ВВС тогда грустно шутили, что ВВС расшифровывается как “Вас Всех Сократят”. Многие из сокращенных офицеров ВВС и флота были направлены в ракетные войска, в том числе и на наш полигон.
Так в нашей лаборатории появились три авиационных майора - майор Белогородцев, майор Имаев и майор Каленик. Дмитрий Фёдорович Белогородцев - неплохой специалист, весёлый, доброжелательный человек, любитель шуток, розыгрышей, словом, типичный лётчик, хотя он и не из лётного, а из технического состава авиации. Всего этого не скажешь о двух других майорах.
Для меня Уральская эпопея, так я привык называть этот период моей биографии, началась с приключения. Приключений и потом было немало, а началось с такого.
Для выбора конкретного места была назначена рекогносцировочная группа в составе трёх человек: майор Белогородцев - будущий начальник экспедиции, майор Каленик и я, как руководитель НИР. Был намечен район рекогносцировки, назначен срок, но дня за два до выезда я вдруг заболел. Было это в декабре 1955 года. Простудился, ангина (я тогда часто болел ангинами), высокая температура.
Решили, что не будем срывать сроки, Белогородцев с Калеником выедут, а я приеду чуть попозже, когда спадёт температура. Договорились, что я приеду в Уржумку (это недалеко от Златоуста), а там на центральной почте они оставят для меня письмо, в котором будет указано, где я их найду.
Дня через два я выехал. Поезд пришел на станцию Уржумка около часа ночи. Вышел. Сильный мороз. А Уржумка оказалась совсем не тем, что я думал. Я думал, что это какой-то, может быть небольшой, но город. А это оказалась просто станция. Несколько домиков в чистом, занесенном снегом поле. Какая центральная почта! Тут вообще никакой почты нет. Куда деваться ночью, да ещё в такой мороз! Никого нет вокруг, всё закрыто.
Наконец нашёл кого-то на станции. Он показал мне: “Вон, видишь вдали огоньки? Это окраина Златоуста. Там есть дом колхозника, где можно переночевать”. Огоньки горели где-то очень далеко, дороги практически нет - всё занесено снегом, темно, мороз, но что делать - побрёл.
Шёл долго, в темноте с трудом угадывая дорогу, увязая в снегу и поминая недобрым словом своих майоров. Хорошо хоть заблудиться было трудно - огоньки были для меня путеводной звездой. Наконец дошёл, с трудом разыскал этот дом колхозника. Определили меня в комнату, где было штук двадцать коек, но никого не было. Счастливый и измождённый рухнул на кровать и заснул.
Вдруг, слышу меня будят: “Вставай лейтенант!” Оказалось, пришла колонна машин, и в комнату ввалилась куча шоферов. У них с собой большой и довольно грязный мешок из обычной мешковины. В таких хранят и привозят на рынок картошку. Но у них он был наполнен пельменями. Шофера, весёлые и шумные ребята, тут же принялись их варить и меня разбудили, чтобы я принял участие в этом ночном застолье. Пельмени были очень вкусными - не чета тому безобразию, что сейчас продаётся в Московских магазинах под этим названием. К тому же, где пельмени - там, естественно, и водка. Словом, ночь пролетела незаметно, и легли спать мы уже под утро.
На следующий день я обошёл все почты Златоуста, а их оказалось очень немного, (думал, что раз в Уржумке нет почты - может быть здесь оставили для меня письмо), но тщетно. Пришлось, не солоно хлебавши, возвращаться на полигон.
Было очень обидно, ведь поездка была совсем не лёгкой. Дорога на Урал и обратно, которая потом стала для меня довольно обычной, была достаточно сложна. Сначала надо было добраться до Паромной (около Волгограда, но на противоположной стороне Волги). А это уже не очень просто. Либо на поезде “Астрахань-Паромная” - но он ходит через день, ползёт чуть быстрее пешехода, да и до станции, расположенной в степи за селом, ещё надо добраться. Можно по грейдеру. Но какого-то регулярного сообщения по грейдеру, типа автобуса, не существовало, машину мне, конечно же, никто не даст - слишком они дефицитны, и слишком я мелкая сошка - оставалось ехать на попутных. А попутка - вещь непредсказуемая, тут уж как повезёт.
Добрался до Паромной - надо форсировать Волгу (плотины тогда ещё не было). Летом - паром, зимой – пешком по льду, а Волга у Волгограда широкая. Однажды я шёл через нее весной. На льду уже был тоненький слой воды, и было невероятно скользко. А тут еще страшный ветер, как часто бывает в этих степных краях. Порой не только невозможно продвигаться вперед, но ещё и сносит. А по краям, рядом с дорогой прорублены огромные проруби, целые озёра, видимо, чтобы лёд на дороге не трескался. Кажется, ещё немного - и снесёт в эту прорубь. Я уж и чемоданом в лёд дополнительно упирался - словом, едва дошёл.
В Волгограде проблемы не кончаются. На железнодорожном вокзале надо выстоять большущую очередь в кассу, да ещё чтобы билет достался. А с этим было не просто. Хорошо ещё, что стоял я не в обычную кассу, а в воинскую, там чуть полегче, но тоже “хорошо”.
Прямой дороги и от Волгограда не было. Надо было доехать до Ртищево, а там снова пересадка и снова те же проблемы, что в Волгограде.
И вот, вся эта нервотрёпка и бесконечные ожидания - всё впустую. Понятно, в каком настроении я вернулся. Сейчас уж не помню, чем объяснили мои два майора, почему они для меня не оставили письма, но думаю, что настоящая причина была в том, что вырвавшись “на волю”, они и думать забыли обо всей этой “прозе” и обо мне, а просто, как сейчас бы выразились, “оттянулись всласть”. О склонности их к этому я потом узнал, познакомившись с ними получше.
Подготовительные работы заняли несколько месяцев, и, наконец, наша экспедиция начала грузиться в эшелон. Тут мне пришлось освоить множество новых для меня вещей: как загружать машины на платформы, как их крепить, как организовать в пути караульную службу, пришлось решать массу всевозможных, непрерывно возникающих проблем. Начальником экспедиции был назначен майор Белогородцев, но мы со Стеблиным, как руководители НИР, естественно, были озабочены тем, чтобы вся техника прибыла на место в целости и сохранности и была исправной.
 5 марта 1956 года эшелон тронулся. В составе
эшелона было десятка полтора платформ, на которых были установлены спецмашины, и
три транспортные машины: две ГАЗ-63 и одна легковая, ГАЗ-67, или “козёл”, как её
называли в армии. Сейчас таких уже давно нет. Это было что-то вроде
американского “Виллиса” времен второй мировой войны. Вот я в этой машине (на
Урале).
5 марта 1956 года эшелон тронулся. В составе
эшелона было десятка полтора платформ, на которых были установлены спецмашины, и
три транспортные машины: две ГАЗ-63 и одна легковая, ГАЗ-67, или “козёл”, как её
называли в армии. Сейчас таких уже давно нет. Это было что-то вроде
американского “Виллиса” времен второй мировой войны. Вот я в этой машине (на
Урале).
Кроме того, было несколько товарных вагонов, в которых ехали имущество и люди. В нашем, офицерском вагоне, так же, как и в солдатских, были сделаны двухъярусные нары и установлена железная печурка.
Было ещё довольно холодно, но мы были в меховых костюмах, днём топили печку, так что днём не мёрзли. Несколько хуже было ночью. Спальных мешков у нас не было, ночью печку топить никому не хочется, а железная печка - не русская печь, остывает мгновенно. К тому же “телячий экспресс”, в котором мы ехали, тепло не держит. Поэтому ночью в вагоне был морозец. Но в меховых костюмах и под одеялами было вполне сносно, да и на улице уже не было серьёзных морозов. Недостаток нашей экипировки - отсутствие спальных мешков - гораздо сильнее сказался уже на Урале, когда мы всю зиму при крутых Уральских морозах жили в палатках (солдаты) и в металлическом неутеплённом фургоне (офицеры). Вот там было значительно неприятнее. Спали, не снимая меховых костюмов и унтов, да ещё сверху закутывались одеялами. Я спал на верхних нарах у стенки, и каждое утро, перед тем как встать, мне приходилось ладошкой оттаивать мои волосы, примерзшие к стенке фургона в парах от дыхания.
Эшелон - не пассажирский поезд, идёт медленно, подолгу стоит на станциях, полустанках и разъездах. До Саратова, до которого всего-то километров 400, мы ехали трое суток.
Восьмого марта мы прибыли в Саратов и остановились прямо напротив вокзала, но на седьмом пути. Все пути между нами и вокзалом были забиты составами - товарными, пассажирскими. А ведь женский праздник! Хотелось послать поздравительные телеграммы. Я знал, что в вокзале прямо напротив входа есть почтовое отделение, но сколько времени мы будем здесь стоять? Успеем ли сбегать туда? Расписания ведь, опять-таки, в отличие от пассажирского поезда, нет. Спрашиваем железнодорожников, которые ходят вдоль составов, проверяют буксы - когда поедем? Говорят - скоро. Сидим. А время идет. Это “скоро” затянулось уже часа на два. И тогда мы со Смирновым Валентином, лейтенантом, начальником одного из двух входивших в состав экспедиции отделений БРК, решили рискнуть и сбегать.
Где под вагонами, где через тормозные площадки, “форсировали” шесть составов, отделявших нас от вокзала. Там повезло - у почтового окошка никого не было. Мы быстро отправили телеграммы и понеслись назад. Выскакиваем на свой седьмой путь и… - видим удаляющийся хвост нашего эшелона.
Шок. В первый момент просто шок. Потом помчались к военному коменданту. Оказалось, что он нам помочь ничем не может. Пассажирских поездов в ту сторону в ближайшее время не предвидится. Посоветовал пойти к диспетчеру - не пойдёт ли какой-нибудь товарняк. Диспетчер сказал, что в таком-то товарном парке, на таком-то пути стоит состав, который скоро пойдёт в нужную нам сторону. Пошли искать этот товарный парк. Он оказался очень не близко. Саратов хотя и не Сочи, но всё же немного южный город, и март там - уже весна. Тем более, когда ясное небо и греет солнце. Поэтому кругом были лужи, а мы топали по ним в меховых костюмах и унтах.
Пока с помощью расспросов всех встречных нашли “где эта улица, где этот дом”, оказалось, что состав уже ушёл. Но в другом, таком-то парке есть другой состав, который скоро должен пойти. Пошли искать другой парк.
Оказалось, что товарные парки - это как острова в большом архипелаге, разбросанные по огромной территории и покрытые мощной паутиной железнодорожных путей. Мы потом, за время нашей гонки на перекладных, немного научились в них ориентироваться. Вообще многому пришлось научиться. Мы узнали, например, что, когда расспрашиваешь диспетчеров про эшелон, бесполезно называть номер эшелона. Нужно называть номера вагонов. Поняли, что надо и что не надо говорить диспетчерам. И даже научились выставлять защитные устройства (сигнальные свечи, петарды) позади остановившегося состава, когда его нагоняет сзади идущий. Однажды нам пришлось это делать под руководством кондуктора, когда мы ночью ехали на тормозной площадке заднего вагона, и наш состав внезапно остановился, а сзади нас нагонял другой состав.
Хорошо ещё, что у меня с собой были все деньги, это много раз нас выручало. Валентин Смирнов оставил свои в вагоне.
Догоняли мы свой эшелон дня три. Пару раз были совсем обидные случаи, когда, приехав на очередную станцию, мы узнавали, что наш эшелон здесь, стоит в таком-то парке, на таком-то пути. Но, пока мы находили этот парк и путь, эшелон успевал уйти. И всё же в конце концов мы его догнали. Это было уже не очень далеко от Урала.
Конечным пунктом для нас был небольшой Уральский посёлок Чебаркуль, в окрестностях которого дислоцировалась общевойсковая дивизия Сухопутных войск. Но, так как на станции Чебаркуль не было рампы, мы не могли там разгрузить наши машины, и поэтому наш эшелон остановился на соседней станции Мисяш.
Выгрузились, поставили свои спецмашины длинной колонной вдоль крайней улицы посёлка. Дома на этой улице были только с одной, внутренней стороны, а со стороны железной дороги тянулось просто поле до самого железнодорожного полотна.
Начальник экспедиции майор Белогородцев уехал поездом в Свердловск, в штаб округа, чтобы решить различные вопросы, связанные с нашей работой. Уехал - и пропал. Предполагалось, что он вернётся дня через два, но прошло дней 5, а от него, что называется, ни слуху, ни духу.
У нас начало складываться довольно критическое положение. Дело в том, что продукты в дорогу мы получили с расчётом на определённое время. А время это давно прошло. Для офицеров это не составляло проблемы, но солдат надо было кормить. Тогда мы с кем-то из начальников отделений поехали в Чебаркульскую дивизию, от которой мы по плану должны были в дальнейшем снабжаться, и рассказали начальнику штаба о сложившемся положении. Он отреагировал очень хорошо. Сказал, что, хотя пока ещё не получил никаких указаний из округа, но не допустит, чтобы наши солдаты голодали, и тут же дал указание поставить нас на снабжение.
Одна гора с плеч свалилась. Но всё равно состояние было дурацкое. Стоим почти неделю в посёлке, бездельничаем, и непонятно сколько нам ещё ждать.
За это время успели познакомиться со многими местными жителями. Ходили на танцы, в баню. Там, кстати, произошёл однажды смешной случай. В мужском отделении бани был большой помывочный зал со скамейками, кранами, шайками - словом, обычная баня тех времён. А в зале, справа и слева двери. Как правило, в банях это двери в парную. Я с кем-то из наших пришёл в баню, мы пошли в левую дверь, попарились и вышли в помывочный зал. В это время туда из раздевалки вошёл Валентин Смирнов с группой ребят. Он набрал в шайку воды и пошёл в правую парную, а ребята за ним. Мы не обратили на это никакого внимания. И вдруг слышим женский визг. Оказалось, что справа дверь не в парную. Эта дверь соединяет мужской помывочный зал с женским. Обычно она заперта, а в этот раз кто-то забыл её запереть. Местные-то знают, что парная только слева и в правую дверь не суются, ну, а наши-то не знали. Как рассказывал сам Смирнов (а у него близорукость, и он носит очки, но не в бане, конечно): “Я иду и вижу фигуры какие-то странные, а ещё пар кругом”. Услышав визг и осознав ситуацию, он поспешно, но пытаясь сохранить достоинство, ретировался. Валентин - высокий, красивый, могучий парень. Он-то близорук и ничего не видел, а для женщин картина была великолепная.
На нашей стоянке, конечно, была организована караульная служба. Часовой с автоматом и боевыми патронами ходил вдоль машин и охранял наше хозяйство. Надо сказать, что и у всех офицеров было личное оружие и патроны. В ту пору ещё не воцарилось в армии поразительное и дурацкое недоверие к офицеру, запрещающее ему ношение личного оружия. Правда, оно и тогда уже хранилось обычно в части, но выдавалось офицеру на руки гораздо проще, и не считалось недопустимым (как это стало впоследствии), буквально каким-то ЧП, если какое-то время он хранит его при себе. А уж при выезде в экспедицию все офицеры просто обязаны были иметь оружие. И во всех последующих поездках с Урала в часть и обратно я всегда ездил с оружием, что, надо сказать, добавляло мне забот о его сохранности. А оружие у меня было, можно сказать, историческое. Револьвер системы наган с надписью: “Тульский Императора Петра Великого оружейный завод. 1912 год”. Это, кстати, не было у нас редкостью. Наганы были у большинства наших офицеров. У Стеблина даже 1904 года. И при этом, надо сказать, они были в отличном состоянии, стволы просто зеркальные, без малейшей коррозии!
С оружием был связан один крайне неприятный эпизод, который произошёл в период нашего “великого стояния” на станции Мисяш. На пятый или шестой день нашего там пребывания мы получили первый знак того, что начальник экспедиции жив и где-то что-то делает. К нам прибыла из округа аэродромная радиостанция с экипажем в составе двух человек: начальник радиостанции, уже немолодой (с тогдашней моей точки зрения) старший лейтенант, бывший фронтовик, и старшина-сверхсрочник, водитель, он же оператор. Радиостанция была на шасси ГАЗ-51, и я подумал, что она доставит нам много хлопот в условиях Уральского бездорожья. У нас-то все машины были повышенной проходимости - и спецмашины (ЗИЛ-151), и транспортные (ГАЗ-63, ГАЗ-67). Впоследствии оказалось, что всё же самое главное не то, какая машина, а то, какой водитель. Этот старшина надел цепи на задние колёса своей машины и уверенно пролезал по, казалось бы, совершенно непроезжим в условиях весенней распутицы дорогам, там, где наши неопытные водители, солдаты, “садились” на своих “повышенной проходимости” и жгли сцепления.
Так вот, в первый же день, когда эти радисты прибыли, они пошли поужинать в чайную на станцию, где все наши офицеры обычно питались. До неё было метров 300. Была суббота. Большинство наших офицеров и солдат ушли на танцы в местный клуб. Я сидел в спецмашине. Вдруг я услышал какой-то шум, громкий разговор. Вышел. Было уже темно. Около машины стояли вновь прибывшие радисты. Старший лейтенант рассказал мне о только что случившемся происшествии. Когда он со старшиной ужинал в чайной, к ним стали цепляться два изрядно выпивших местных парня. В общем-то это обычное явление. Я по своему опыту знаю, что для пьяных военный - это как красная тряпка для быка. Радисты не стали с ними связываться, а расплатились и пошли к машинам. Парни за ними. Старший лейтенант сказал старшине: “Бежим!”. Они побежали. Парни погнались за ними и уже вблизи машин нагнали и бросились на них. Старший лейтенант крикнул: ”Часовой, ко мне!” Подбежал часовой с автоматом (помню его фамилию - Ягубец). Но начал он действовать не как часовой на посту, а как обычный деревенский парень (каким он по сути и был) при драке, то есть попытался успокоить и разнять дерущихся. И тут один из этих парней выбил у часового автомат. Автомат упал на землю, и парень потянулся за ним. Как рассказывал старший лейтенант, он сразу понял, что дело принимает опасный оборот, и тоже бросился к автомату. Но всех опередил Ягубец. Тут он, видимо, рассвирепел, первым схватил автомат и, выпрямляясь, сразу ударил прикладом автомата одного из парней снизу в челюсть, а второго уже сверху прикладом по голове. Они оба рухнули.
Мы стояли около машин, обсуждали случившееся, и вдруг из темноты на нас бросилась большая толпа местных парней.
Впоследствии оказалось, что один из этих пьяных поднялся, пришёл в клуб и сказал своим, что его друга убили. Все из клуба бросились сюда. Причем произошло это так, что никто из наших офицеров и солдат, бывших в клубе, не понял, куда это вдруг ушли все местные парни, и ничего не заподозрил.
Когда на нас, троих или четверых, бросилась эта толпа, я выхватил из-под куртки револьвер (я всегда носил его во внутреннем кармане куртки) и выстрелил в воздух. Толпа остановилась, но обстановка была просто кошмарная. Я оказался один с револьвером в руке против большой, разгорячённой, подогретой спиртным толпы. Они кричали мне: “Брось пистолет! Всё равно мы тебя убьём!” А у меня лихорадочно метались в голове мысли - что делать? Если они сейчас бросятся на меня - не стрелять же в людей! Да и не отобьёшься с одним револьвером от толпы, когда она в двух метрах от тебя! И тут я увидел в этой толпе одного местного парня, с которым дня два назад разговаривал. Он подходил к нам, рассказывал, что только что демобилизовался, служил срочную службу на флоте. Я, может быть инстинктивно, нашёл, пожалуй, единственно верное в этой ситуации решение. Я крикнул ему: “Что ты делаешь! Ну, они, может быть, не понимают, но ты-то только что отслужил! Ты что, не понимаешь, что вы ворвались на охраняемый военный объект! Я могу сейчас дать команду часовому, и он вас всех перестреляет из автомата. И нас никто ни в чём не обвинит!” В какой-то степени это было правдой. Законы тогда были суровы, а армия в почёте. Хотя неприятностей хватило бы. И, главное, - приказать стрелять в людей? В наших, своих, в общем-то ни в чём не виноватых? Вряд ли бы я мог на это решиться, хотя формально, вероятно, был бы прав. И если бы в процессе этого разбойного нападения пострадали спецмашины, меня скорее сурово наказали бы за не отдание такого приказа. Впрочем, я даже не видел, где в этот момент был часовой.
Однако слова мои возымели действие и не только на бывшего морячка, но и на всю толпу, на что я и рассчитывал. Возникло замешательство, и воинственные вопли приутихли. И тут, на моё счастье, прибежали женщины. Я уже говорил, что мы стояли на краю улицы, так что всё происходило почти под окнами домов. Выскочили женщины, стали хватать, успокаивать и уводить мужчин. Напряжение улеглось.
Когда мы остались одни, оказалось, что мой выстрел был очень уместным и своевременным. Я не видел в темноте и в толпе, что налетевшие на нас парни сбили с ног старшего лейтенанта радиста и ударили его ножом. Удар пришелся в лоб, причем он пытался отразить его, поэтому удар получился не сильным и не пробил кость. Но парень сел на упавшего радиста и снова замахнулся ножом. Радист перехватил его руку. Парень стал выкручивать ему руку, и в этот момент раздался выстрел. Как рассказывал радист, парень сразу обмяк. Радист решил, что кто-то выстрелил в парня, выскользнул из-под него и убежал за машины. А парень обмяк, видимо, просто от испуга. Я ничего этого не видел. Если бы я видел, что радиста бьют ножом, пришлось бы действительно стрелять в парня.
А на следующий день появился долгожданный Белогородцев, и мы, наконец, уехали из этого Мисяша, о котором, во многом из-за этого случая, у меня осталось примерно такое же впечатление, как у Лермонтова от Тамани. Помните? “Тамань - самый скверный городишко из всех приморских городов России”.
О происшедшем случае мы заявили в милицию, и, как мы потом слышали, этих ребят прилично наказали. Повторюсь, что армия тогда, пользовалась большим уважением. Ведь прошло всего каких-то 10 лет после той, страшной войны. К тому же в политике упор делался на силу, была эпоха так называемой “холодной войны”. Ну а наказывали тогда сурово, зачастую не обременяя себя “формальностями”. Например, сторожа на колхозных полях были вооружены винтовками и имели право убивать тех, кто пытается что-то украсть с поля. В десятом классе, в 1948 году, я учился с парнем, который, охраняя колхозное поле в деревне Щукино (тогда ещё деревне! Теперь там метро), убил человека, сорвавшего на поле пучок гороха.
Началась наша нормальная работа на Урале. Мы
выбирали позицию и разбивали вблизи неё лагерь, который состоял из десятка
армейских палаток и уже упомянутого мной железного фургона.

К нам был прикомандирован вертолет (откуда-то из Саратова, по-моему), который базировался в Челябинске. Самое лучшее впечатление осталось от его замечательного экипажа - весёлые, дружелюбные, общительные ребята, любители шуток, подначек и при этом прекрасные пилоты. Их было четверо: два пилота, штурман и борттехник. Особенно запомнился штурман по фамилии Король. Он и был король во всех делах, от полётов до рыбалки и всяческих “розыгрышей”. Чуть позже я узнал, что он воевал, и на фронте тоже был король, если уместно такое выражение. Был сбит над чужой территорией, вышел к своим, снова летал. Награждён многими орденами, в том числе, орденом Ленина - высшей и не часто вручаемой наградой.
Вот он, экипаж нашего вертолёта.
Король в центре, справа и слева от него пилоты. Борттехника на снимке нет, иногда он оставался в Челябинске, когда требовалось что-то подготовить для профилактических работ с вертолётом.
Наша работа была организована так же, как в Кап. Яре. Вертолёт прилетал к нам в лагерь, загружал бортовой стенд, мы отрабатывали эту позицию, после чего вертолет снова садился у лагеря, мы разгружались, и он улетал в Челябинск. Здесь же, в лагере, мы проявляли ленты шлейфных осциллографов и плёнки кинотеодолитов и вели обработку полученных результатов.
 Высоты нам были нужны не менее чем до 3000 м.
Вообще говоря, - чем больше, тем лучше, тем ближе к реальности и точнее
результат. Поэтому здесь, на Урале, кроме вертолёта нам был придан ещё самолёт.
Причем, не какой-нибудь Як-12, а довольно редкая и очень дорогая машина -
тяжёлый бомбардировщик Ту-4. Это был большой самолёт, полностью “содранный” с
американской “Летающей крепости” (B-29),
с экипажем в составе 13 человек. Вот он на фото.
Высоты нам были нужны не менее чем до 3000 м.
Вообще говоря, - чем больше, тем лучше, тем ближе к реальности и точнее
результат. Поэтому здесь, на Урале, кроме вертолёта нам был придан ещё самолёт.
Причем, не какой-нибудь Як-12, а довольно редкая и очень дорогая машина -
тяжёлый бомбардировщик Ту-4. Это был большой самолёт, полностью “содранный” с
американской “Летающей крепости” (B-29),
с экипажем в составе 13 человек. Вот он на фото.
Такая машина не могла базироваться на небольшом Челябинском аэродроме, и в качестве аэродрома базирования был выбран Свердловск (ныне Екатеринбург), аэродром Кольцово. Это был гражданский аэродром, военные самолёты постоянно там не базировались, но для военных при аэродроме была гостиница для перелетающих экипажей.
Ту-4 - стратегический бомбардировщик. Может быть поэтому, как нам рассказывал экипаж, при инструктаже их предупредили: в такой-то район не заходить - самолёт будет сбит без предупреждения. Тогда мы этого толком не знали, но оказывается мы работали вблизи района, где были размещены атомные предприятия (Кыштым). Не очень-то нас это интересовало, но информация на нас сваливалась поневоле. Произошла какая-то авария, и нам запретили купаться в прекрасных озёрах, которых было много вокруг, пить из них воду, ловить рыбу. Мы, кстати, то ли по молодой беспечности, то ли из-за отсутствия знаний об опасности радиации (в то время об этом было мало известно) не очень-то считались с этими запретами. В поезде часто встречались с работниками этих предприятий, которые обычно крепко выпивали (снимали стресс?) и начинали обсуждать, кто за этот год сколько схватил рентген.
Интересный эпизод произошёл однажды в полёте. Мы, как и весь экипаж, всегда были в шлемофонах. Во время работы вдруг слышу по СПУ (самолётное переговорное устройство) командир говорит: ”Стрелки! Что смотрите! Истребители в хвост заходят!” Посмотрел в боковой блистер и увидел, что совсем рядом с нами пеленгом идёт пара истребителей. Смотрю наши стрелки наводят на них турели. Интересно! Это что же, мы сейчас ввяжемся в воздушный бой со своими же истребителями? Истребители сопроводили нас немного и отвалили в сторону. Видимо, они как раз охраняли запретный для полётов район. А мы ведь летали восьмёрками, и радиус разворота у этой тяжёлой и непилотажной машины большой, вот, наверное, и приблизились опасно к запретной зоне. Но что означало это указание командира стрелкам - до сих пор не знаю. Не знаю даже, были ли у них боевые снаряды. Сейчас любой скажет: “Да нет, конечно!” Но тогда время было другое, и отношение к оружию было другое - могли и быть. Хотя, пожалуй, наиболее вероятно всё же, что командир просто решил использовать этот эпизод для тренировки стрелков.
Если вертолёт мог работать до высот порядка 4000 м., то Ту-4 спокойно работал до 8000. Однажды, правда, вертолётчики нам лихо предложили, что и они обеспечат нам 7-8 тысяч. Им, как и нам, не очень-то хотелось сидеть долго на Урале, вдали от семьи, родных и друзей. Хотя бытовые условия у них были несравненно лучше наших, экспедиционных - они жили не в палатках, а в приличной гостинице и питались не так как мы. Но всё же хотели быстрее попасть домой. А так как работа с Ту-4 была значительно сложнее и замедляла наши исследования, они и попытались в нарушение всех инструкций забираться на 8000. Мы, конечно, с удовольствием согласились - нам тоже хотелось закончить все побыстрее. Но первый же полёт показал, что это нереально. Во-первых, возникли проблемы с кислородным оборудованием. В отличие от Ту-4 на вертолёте нет стационарного кислородного оборудования, а переносные баллончики с масками, которые они взяли для нас и для себя, оказались неудобны и не обеспечивали нужное время. Там не было автомата, который открывает кислород только при вдохе, как на Ту-4, кислород тёк всё время и быстро кончался. Да и ёмкость баллончиков была мала. Но, главное, что двигатель вертолёта стал перегреваться, и на высоте около 6500 наши пилоты сдались и отказались от своей авантюрной идеи.
Поскольку Стеблина на Урале ещё не было, я стал готовить в качестве второго бортового оператора Бориса Яцко, который был в составе нашей экспедиции.
 Во-первых, он мог помочь мне в полёте, а,
во-вторых, у меня, как у руководителя этой работы, было много дел и на земле. И
я надеялся, что когда Яцко хорошо освоит работу на борту, он будет летать один,
а я буду руководить работами на земле, так как вскоре выяснилось, что больше это
делать фактически некому. Я предполагал, что на земле всем руководить будет Белогородцев, но он, к сожалению, вёл слишком «вольный» образ жизни. Ночами
пропадал в соседних деревнях, являлся под утро, не слишком трезвый, и на работе
«клевал носом», не проявляя ко всему происходящему никакого интереса. Так что
моё присутствие на земле было очень нужно.
Во-первых, он мог помочь мне в полёте, а,
во-вторых, у меня, как у руководителя этой работы, было много дел и на земле. И
я надеялся, что когда Яцко хорошо освоит работу на борту, он будет летать один,
а я буду руководить работами на земле, так как вскоре выяснилось, что больше это
делать фактически некому. Я предполагал, что на земле всем руководить будет Белогородцев, но он, к сожалению, вёл слишком «вольный» образ жизни. Ночами
пропадал в соседних деревнях, являлся под утро, не слишком трезвый, и на работе
«клевал носом», не проявляя ко всему происходящему никакого интереса. Так что
моё присутствие на земле было очень нужно.
Нельзя сказать, что работа на борту была слишком сложна, но нужен был опыт, немало знаний и навыков, так как нужно было очень быстро ориентироваться в ситуации и выполнять необходимые операции, не теряться, когда происходят какие-то отклонения от обычного режима (как теперь говорят – нештатная ситуация). Поэтому я брал Яцко с собой в полёт и старался, чтобы он работал во время полёта максимально самостоятельно, подстраховывал его только в критических ситуациях. На этом снимке я с Яцко (он справа) перед полётом.
Когда мы работали с Ту-4, мы тоже летали вдвоём с Яцко. Одному ему я опасался доверить эти наиболее ответственные и ценные для нас работы.
Работа на Ту-4 была гораздо комфортнее для
операторов. Просторная кабина (мы работали в кабине операторов “Кобальта”-
бортового локатора и бомбоприцела), удобное кислородное оборудование и даже
койки, на которых можно было вздремнуть пока летим из Кольцово до наземной
позиции. Но было много сложностей. Нам с Яцко приходилось жить в Свердловске. Мы
жили в той же гостинице, что и лётчики, и опекали нас, на первый взгляд, так же,
как и лётчиков. Например, вечером являлась дежурная, напоминала, что завтра в 5
утра у нас вылет и настойчиво требовала, чтобы мы ложились спать. Вплоть до
того, что выключала нам свет, если мы пытались возражать. Но дальше начиналась
“расовая дискриминация”.
 Как бы рано ни назначался вылет, для лётчиков в
столовой готовился прекрасный завтрак по лётной (пятой) норме. Нам же было “не
положено”. Естественно, поесть в это время где-нибудь в другом месте было
невозможно. Поэтому наш традиционный завтрак был на борту самолёта и назывался
“ириски с кислородом”. Это хоть немного позволяло притупить чувство голода, ведь
полёт продолжался обычно часов 6.
Как бы рано ни назначался вылет, для лётчиков в
столовой готовился прекрасный завтрак по лётной (пятой) норме. Нам же было “не
положено”. Естественно, поесть в это время где-нибудь в другом месте было
невозможно. Поэтому наш традиционный завтрак был на борту самолёта и назывался
“ириски с кислородом”. Это хоть немного позволяло притупить чувство голода, ведь
полёт продолжался обычно часов 6.
На этом снимке Яцко перед полётом расчехляет кабину хвостового стрелка ТУ-4
В Кольцово у нас были проблемы с зарядкой кассет осциллографа и проявлением записанных лент - ведь не только фотолаборатории, но и какого-то затемнённого помещения в гостинице не было. Мы выходили из положения так: в нашем номере один из нас залезал с кассетами и кюветами с проявителем и фиксажем под стол, а второй накрывал стол до самого пола одеялами с наших кроватей. В этой “микрофотолаборатории” было душно, неудобно, но задачи свои она решала.
Однако, всё это были просто бытовые неудобства, а основные сложности состояли в другом. При переходе с вертолёта на Ту-4 и обратно нужно было доставлять достаточно громоздкий и тяжёлый бортовой стенд с аппаратурой в Свердловск, а потом везти его обратно. И, самое неприятное, состояло в том, что после полёта осциллограммы с записью сигналов оставались на борту самолёта и прибывали в Свердловск, а кинотеодолитные плёнки и ленты времени - на наземной позиции. Их надо было как-то “воссоединить” для совместной обработки. Приходилось возить осциллограммы поездом из Свердловска до ближайшей к экспедиции станции, а туда приходила наша машина для доставки в лагерь экспедиции. Как будто бы ничего особенного, но на практике это было крайне неудобно. Ведь даже связь лагеря со Свердловском, чтобы согласовать срок прибытия машины, была огромной проблемой. Ещё раз скажу, что сотовой связи, с помощью которой эта проблема решалась бы легко, тогда не существовало. Проблема и пробиться машине из лагеря на станцию по бездорожью (особенно в распутицу). Кроме того, перевозки занимали много времени - поезда ведь ходили редко. Да и оплата этих перевозок не укладывалась в стандартные правила оплаты командировочных, а регулярно ездить за свой счёт - накладно. Словом, это была больная проблема.
Зная об этом, штурман-бомбардир самолёта однажды предложил нам такое решение. При очередном вылете сбрасывать на наземную позицию проявленные осциллограммы предыдущей работы. Идея нам понравилась. Я даже согласовал её с находившимся в это время у нас Юртайкиным. Он периодически приезжал на Урал (уж лучше бы он этого не делал, как-нибудь позже поясню почему, если хватит времени и терпения).
Перед следующим вылетом мы с Яцко тщательно упаковали осциллограмму. Засунули её даже в презерватив (на случай, если она упадёт в воду) и в консервную банку. Банку перевязали изолентой и привязали её к небольшому самодельному парашютику, чтобы она падала не слишком быстро и её успевали отслеживать. Всё это мы вручили штурману-бомбардиру.
При подлёте к позиции связались с нашими по радио и предупредили: “Следите. Будем сбрасывать вымпел”. С земли нам сказали, что они готовы. Штурман-бомбардир произвёл свои расчёты и сбросил. Через некоторое время по радиосвязи мы уловили какое-то замешательство на земле и выяснили, что они сначала видели вымпел, а потом его потеряли.
Юртайкин вызвал меня из Сердловска в лагерь экспедиции. Я приехал и узнал, что, оказывается, следили за вымпелом просто глазами (и это при огромном количестве всевозможной оптики на позиции!). Позиция была расположена на поляне, слева от которой (относительно направления работы) была поросшая лесом возвышенность. Все, кто наблюдал, говорили, что вымпел упал где-то за возвышенностью. Штурман-бомбардир уверял, что такой ошибки быть не могло, вымпел должен был упасть на поляну.
Целая трагедия. Пропал день работы! Мало того, что пошли впустую затраты бензина, ресурса самолёта, плёнки, труд многих людей. Ещё ужасно было то, что потерян день с нужной погодой - облачностью выше 8 км., что нам было необходимо, и что было так редко на Урале. Я тяжело переживал эту катастрофу, тем более, что Юртайкин обвинил во всём меня, вероятно, как человека, который предложил ему эту идею.
Ужасно. Но, что делать! Работу повторили, тем более, что высшие силы были к нам благосклонны, и безоблачная погода держалась (дело было летом). Обработали материалы и переехали на другую позицию, потом на следующую. Вернулись к старому способу доставки осциллограмм.
Прошёл месяц или чуть больше. И вдруг - гром среди ясного неба! Откуда-то (чуть ли не из Москвы) по линии госбезопасности на полигон пришла информация, что в экспедиции потеряли секретную осциллограмму! Нам было приказано немедленно прекратить все работы и искать осциллограмму.
Тут я должен пояснить. Когда мы работали в Кап. Яре, эти осциллограммы действительно имели гриф “секретно”. На полигоне всё было секретно или сов. секретно, часто без серьёзных оснований. Так привыкли. Полагали, что “лучше перебдеть, чем недобдеть”. Осциллограммы же наши представляли собой по существу, просто запись синусоиды и на второй линии ничем не промаркированные метки времени (т.е. просто гребёнка импульсов). Они никому (даже нам, занимающимся этой работой) ни о чём не говорили без кинотеодолитных плёнок, лент времени, рабочих записей бортовых операторов, сведений об исследуемых позициях и т.д. Поэтому даже в Кап. Яре я удивлялся - что в них секретного? Но там, по крайней мере, этот гриф не вызывал никаких затруднений с регистрацией и хранением этих осциллограмм. Когда же мы поехали на Урал, я договорился, что мы не будем присваивать гриф “секретно” осциллограммам. Сейчас уже точно не помню, но кажется, эта моя договорённость с начальством и секретным отделом, к сожалению, была устной, не была закреплена каким-нибудь документом.
Когда нас обвинили в потере секретной осциллограммы, я пытался объяснить, что она не секретная. Но мне было сказано, что на полигоне осциллограммы были секретные, а здесь потеряли и поэтому говорите, что несекретная. Конечно, тогда я был ещё недостаточно опытным. Ведь можно было сказать: если она секретная, то где зарегистрирована, какой номер? Впрочем, вряд ли бы это помогло. Еще обвинили бы в том, что храним незарегистрированные секретные документы.
Короче говоря, мы прервали все работы, создали большую группу солдат и офицеров и выехали снова на ту злосчастную позицию искать осциллограмму. Возглавил поиски Юртайкин.
Продумали и обсудили методику поиска. Было решено разбивать лес на полосы шириной 3 метра от поляны до дороги на обратной стороне возвышенности и тщательно просматривать каждую полосу. Протяжённость леса вдоль поляны была около 300 метров, так что всего потребовалось бы порядка 100 полос. Разбивать лес на полосы решили телефонным проводом. Во вспомогательной машине БРК было, если не ошибаюсь, пятьдесят пятисотметровых катушек этого провода. В поисковой группе было примерно 30 солдат. Планировалось, что половина из них повесят на спину катушки и пойдут через лес на расстоянии трёх метров друг от друга. По центру образовавшихся полос пойдёт вторая половина, тщательно осматривая деревья и всё вокруг в своей полосе. С учётом того, что солдаты, разматывающие провод, тоже будут смотреть, “количество глаз на единицу площади” получалось достаточно высоким, и даже в этом глухом лесу вряд ли наш вымпел мог остаться незамеченным.
Однако было одно “но”. Солдатам ведь было, в общем-то, наплевать на наши проблемы, и было опасение, что они с удовольствием погуляют по лесу, но не будут слишком усердствовать в поисках. Тогда родилась идея заинтересовать солдат. Им было объявлено, что тому, кто найдёт вымпел, будет предоставлен отпуск на 20 суток с выездом домой. Вот это вызвало настоящий взрыв энтузиазма! Как писал Высоцкий: “Я б в Москве с киркой уран нашёл при такой повышенной зарплате”. Отпуск для солдат в то время, да ещё солдат Ракетных войск, служивших в закрытых гарнизонах в глухих местах, да ещё на такой срок! Это был бесценный приз, и тут уж не было сомнений, что солдаты найдут этот злосчастный вымпел, даже если его проглотили волки.
Ранним утром начались поиски. Я был на опушке леса со стороны поляны, а кто-то из наших офицеров на дорогое с другой стороны возвышенности. Нашей задачей было направлять солдат разбивать и осматривать новые полосы после того, как они пройдут и осмотрят свои.
Поисковая группа медленно побрела по лесу, размечая и осматривая полосы, а я решил пока пройтись по опушке и набрать грибов на обед всей поисковой группе. Там, в тех глухих Уральских местах, где мы кочевали, набрать одному человеку грибов на обед для 40 человек вовсе не было фантастической задачей.
Я прошёл всего метров 30 и вдруг увидел на крайнем дереве на высоте примерно человеческого роста какой-то сверкающий круг с чёрным перекрестием. Сначала мне показалось, что это какой-то оптический прибор, но, когда я подошёл поближе, оказалось, что это и есть наш вымпел. Сверкала на солнце консервная банка, перетянутая крест-накрест чёрной изолентой.
Штурман-бомбардир оказался прав! Вымпел был фактически на поляне. По-видимому, когда наши наблюдали за ним невооружёнными глазами, на фоне неба они его видели, а на фоне леса потеряли, и у них сложилось впечатление, что он упал за возвышенностью.
Я схватил банку и помчался за солдатами, которые успели отойти всего метров на 50. Крикнул им, что всё отменяется, я уже нашёл. Ближайший ко мне солдат взмолился: ”Товарищ лейтенант! Отдайте мне, я скажу, что я нашёл”. Это был хороший солдат и у меня не хватило духу ему отказать. Тут же в него вцепился его сосед по полосе: ”Скажем, что нашли вместе!” Так и было доложено Юртайкину.
Как и было обещано, этим солдатам был предоставлен отпуск, но неожиданно для меня Юртайкин заявил, что так как это я виновен в потере осциллограммы, то проезд им к дому и обратно должен оплатить я. Ничего себе! Это были не такие уж малые деньги, и, главное, - в чём я виноват? Кроме того, получалось смешно: нашёл-то я сам и за своё желание сделать доброе солдатам теперь должен расплачиваться! Но расплачиваться мне не пришлось. Командир отделения, откуда были солдаты, Валентин Смирнов, как раз за чем-то должен был ехать в Чебаркульскую дивизию, от которой мы снабжались. Ничего не говоря Юртайкину, он выписал там солдатам проездные документы.
Всё закончилось благополучно, осциллограмма найдена. Впрочем, она была теперь совершенно не нужна, работу ведь повторили. Найденную осциллограмму всё же обработали (кинотеодолитные плёнки, ленты времени и все записи той работы у нас сохранились) и только лишний раз убедились, что методика у нас правильная, и результаты не носят случайный характер. Я говорю “лишний раз”, потому что мы ещё в Кап. Яре иногда по разным причинам повторяли работы на одной и той же позиции и видели, что полученные результаты существенно не отличаются.
Навсегда осталось для меня загадкой - а кто же доложил “куда следует” о потере осциллограммы? Выходит, в составе нашей небольшой экспедиции тоже был свой “стукач”! Причём, вряд ли это мог быть кто-нибудь из солдат, они ведь были не очень осведомлены о наших производственных делах. Значит - кто-то из офицеров. И это из нашего-то маленького офицерского коллектива, где все отлично знают друг друга, где каждый на виду! В голове не укладывается.
На одной из выбранных нами позиций я получил урок того, насколько впечатляющим бывает обман зрения. Мы выбрали позицию с большим уклоном местности под антеннами. А местность была такая: справа горный хребет, у подножия его ручей, а дальше поляна, на которой мы и выбрали позицию. После разметки и замеров ко мне подошёл геодезист и доложил, что уклон местности составляет 1,5 метра на 100 метров (база антенн), левая антенна плюс сто пятьдесят один сантиметр. Я посмотрел и сказал, что да, я примерно так и думал, но только он ошибается, не левая плюс, а правая плюс. Это было видно совершенно ясно. Геодезист усомнился - вроде бы нивелир показал, что левая плюс. Я сказал:
- Ты что! Ну, посмотри, если бросить на поляну мяч - куда он покатится? Не вправо же! Ясно, что влево. Значит правая - плюс.
 Геодезист сказал, что как будто бы так, но ведь к ручью обычно местность
понижается. Словом, пошёл проверять. Оказалось, что всё же левая – плюс. Я
проверил сам и убедился, что всё верно. Поразительно! Глаза совершенно явно
показывали, что уклон влево, а прибор - наоборот. С тех пор я не удивляюсь,
когда падкие до сенсаций газеты пишут, что где-то в горах есть место, где
предметы катятся не под гору, а в гору.
Геодезист сказал, что как будто бы так, но ведь к ручью обычно местность
понижается. Словом, пошёл проверять. Оказалось, что всё же левая – плюс. Я
проверил сам и убедился, что всё верно. Поразительно! Глаза совершенно явно
показывали, что уклон влево, а прибор - наоборот. С тех пор я не удивляюсь,
когда падкие до сенсаций газеты пишут, что где-то в горах есть место, где
предметы катятся не под гору, а в гору.
На фото я у нивелира.
Здесь, на Урале, мы без труда находили все интересующие нас рельефы местности. Тут было всё: и леса, и горы, и вода, и снега. Была только одна проблема - погода. Ведь в процессе нашей работы велась кинотеодолитная съёмка вертолёта или самолёта, а это значит, что облачность должна быть выше, чем наша предельная высота полёта. Для вертолёта это было 4000 метров, а для самолёта и того больше - 8000. Такая погода, в отличие от Кап. Яра, для Урала не характерна. Летом ещё так сяк, порой и выпадает. Но зимой! Иногда по месяцу мы не могли работать. А нам ведь необходимо было исследовать позиции с разным уровнем снега, с замёрзшей водой, с зимним лесом.
Было долгое и томительное ожидание, усугублявшееся нашим, прямо скажем, скверным бытом. Скверным по многим причинам.
Во-первых, питание. Снабжались мы от Чебаркульской дивизии, до которой было, в среднем, от нашей глухомани, где мы кочевали, около ста километров. Сто километров бездорожья, особенно в плохую погоду или зимой, когда всё занесено глубоким снегом, были серьёзной проблемой. Поэтому мы получали продукты раз в месяц. Естественно, что любые продукты при месячном хранении в отсутствии не только холодильника, но даже погреба, не становятся лучше. Даже такие, как масло, макароны. Но особенно плохо было с хлебом и мясом. Годы спустя я сталкивался с подобными случаями, но при этом люди получали сухари и мясные консервы. Тоже, конечно, не праздник для желудка, но всё же гораздо лучше, чем было у нас. Мы же получали на месяц не сухари, а именно хлеб, и вонючую солонину. Нетрудно представить, как выглядит хлеб месячной давности и лучше не представлять какой у него вкус. А солонина… Наверное, именно из-за такой и было восстание на броненосце “Потёмкин”. Какие-то меры к сохранению продуктов мы принимали. Рыли ямы и прикрывали их ветками, но это мало помогало.
Во многом наш первобытный быт скрашивался первобытными же способами добычи пищи. Летом мы собирали грибы, которых там было множество, иногда просто неисчислимое множество. Ловили рыбу, её тоже было много, правда мелкой - плотва (“чебак” на Уральском наречии). Были среди нас и охотники. Стреляли уток, тетеревов, зайцев. Так что есть солонину мы по возможности избегали, но часто приходилось. Добыча была далеко не всегда.
Однажды нам выпала было удача. Недалеко от очередной нашей позиции проходила грунтовая дорога, и как-то утром мы нашли на этой дороге большой ящик рыбных консервов. Мы обрадовались. Оказалось рано. Присутствовавший тогда у нас Юртайкин отнёсся к этой находке с большим подозрением. Почему это вдруг вблизи воинского подразделения оказались консервы? Кто и зачем их подбросил? Напрасно мы убеждали Юртайкина, что несомненно какой-то грузовик, проезжая по здешним колдобинам, просто потерял этот ящик. Юртайкин оставался при своих подозрениях. Но, видно, столько страсти было в наших доводах, страсти людей, истосковавшихся по человеческой пище, что в конце концов он принял такое решение. Консервы сначала попробуют три человека, руководители: он, я, и Стеблин. Вечером мы открыли одну банку и втроём её съели. Не знаю, как другие, а я с наслаждением. Утром Юртайкин справился о нашем самочувствии. Мы с Эдиком бодро сообщили, что самочувствие отличное. Юртайкин сказал: ”А у меня что-то побаливал живот”. И приказал затопить ящик с консервами в озере, на берегу которого был наш лагерь. Приказ был, конечно, выполнен, но трудно передать, какими глазами мы смотрели на эту кощунственную операцию.
Во-вторых, (если вы ещё не забыли, что было “во-первых”) проблемы белья, проблемы стирки. Летом ещё можно было стирать в озере, хотя всё равно много сложностей, о глажении я уж и не говорю. А зимой совсем плохо. Были периоды, когда я вместо подушки использовал голенище своего унта, так как оно, по крайней мере на вид, было чище, чем наволочка на моей подушке.
В-третьих, то, о чём я уже говорил - зимой и летом жизнь на нарах в маленьком фургончике, где летом жара, а зимой мороз. При этом большая скученность в общем-то довольно разных людей. Не удивительно, что порой бывали и конфликты. Скорее удивительно, что их было очень мало.
Но, конечно, главное, что терзало душу в этих бесконечных ожиданиях, это то, что мы, молодые, только что женившиеся ребята, оказались так надолго вдали от наших любимых. Прямо какой-то медовый месяц шиворот навыворот, растянувшийся, к тому же, больше чем на год. Мы были лишены радости видеть, как растут наши только что родившиеся дети. Не могли помочь своим жёнам, вынужденным в одиночку справляться с навалившимися на них проблемами. А тут день за днём проходят впустую! И отодвигают на неопределённое время тот счастливый миг, когда мы, наконец, вернёмся домой. Поэтому, несмотря на то, что во вторую зиму наш быт несколько наладился, настроение часто было подавленное, по крайней мере у меня.
А быт стал немного лучше потому, что мы стали работать, как сейчас бы сказали, “вахтовым методом”. То есть организовали постоянную базу экспедиции в большом селе, которое называлось Кундравы. Офицеры поселились в маленькой сельской гостинице (волосы уже по утрам не примерзали к стенке), а солдат расселили по частным домам. Группа солдат и офицеров, участвующая в очередной работе, выезжала на полевую позицию, если нужно - ночевала там одну или несколько ночей, и возвращалась в базовый лагерь. А так как нужная погода выпадала зимой редко, то даже такие выезды были не слишком частыми. В селе же и вопросы стирки, и даже питания решались проще.
Но в главном, что сильнее всего угнетало, от этой перемены легче не стало. Это можно проиллюстрировать отрывком из написанного мной однажды:
|
Я лежу ничком на кровати И глотаю тяжелый ком, Как ребенок в колени матери В одеяло уткнувшись лбом.
Только детство давно прошло, Мать, как прежде, не пожалеет. На душе всегда тяжело, А сегодня еще тяжелее.
На соседней койке Тубанов От безделья и от тоски Басом, тенором и сопрано Исполняет песен куски,
За окошком пурга визжит, Пробегают ночные тени… Эх! Какая дурацкая жизнь! И, хоть плачь - ничего не изменишь. |
А пурга визжала день за днём, ей и дела не было до наших переживаний.
Особенно обидно было однажды. Вдруг выдался редкий ясный, безоблачный день. Ну, и, конечно, как это обычно в таких случаях на Урале, хороший мороз. Началась работа. Я был на борту. Не успели мы отлетать и четверти всех высот, как прекратилась кинотеодолитная съёмка. В чём дело? Сели. И выяснилось, что кроме мороза на земле ещё и ветерок, хотя и не очень сильный. Но при таком морозе его оказалось достаточно, чтобы солдаты, работающие у теодолитов, отморозили лица. Работать оказалось невозможно. После этого случая мы сшили для солдат тёплые стёганые маски с прорезями для глаз, и больше таких проблем не возникало.
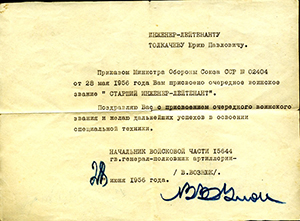 Здесь, на Урале меня застало известие о
присвоении мне очередного воинского звания. Когда мы заканчивали академию, срок
выслуги от лейтенанта до старшего лейтенанта был установлен 2 года.
Соответственно, в 1955 году на нас должны были быть направлены представления на
присвоение очередного звания. Но к этому времени срок выслуги увеличили до трёх
лет. Поэтому представления на нас составляли, когда истекли три года, то есть в
первых числах марта 1956 года. Но пока всё это составили, скомплектовали, пока
это шло в Москву, пока там крутилась бюрократическая машина прошло почти три
месяца. Приказ о присвоении мне звания датирован 28 мая 1956 года, а узнал я об
этом из поздравительного письма начальника полигона генерал-полковника Вознюка,
которое он подписал 28 июня 1956 года.
Здесь, на Урале меня застало известие о
присвоении мне очередного воинского звания. Когда мы заканчивали академию, срок
выслуги от лейтенанта до старшего лейтенанта был установлен 2 года.
Соответственно, в 1955 году на нас должны были быть направлены представления на
присвоение очередного звания. Но к этому времени срок выслуги увеличили до трёх
лет. Поэтому представления на нас составляли, когда истекли три года, то есть в
первых числах марта 1956 года. Но пока всё это составили, скомплектовали, пока
это шло в Москву, пока там крутилась бюрократическая машина прошло почти три
месяца. Приказ о присвоении мне звания датирован 28 мая 1956 года, а узнал я об
этом из поздравительного письма начальника полигона генерал-полковника Вознюка,
которое он подписал 28 июня 1956 года.
Такое же известие получил и Юра Блистанов, который в тот период тоже работал в экспедиции.
Большим счастьем для каждого из нас было вырваться на какое-то время домой в Кап. Яр. Причин, позволяющих это осуществить, было немного. Во-первых, очередной отпуск (к сожалению, только раз в году) и, во-вторых, какая-то служебная необходимость (тоже крайне редко). Конечно, отъезжающий был счастлив, а остающиеся ещё острее ощущали свою “дурацкую жизнь”. Помню, как уезжал зимой в отпуск Борис Яцко, а мы с Белогородцевым провожали его, пробиваясь на нашем стареньком “козлике” (ГАЗ-67) по заметённым снегом дорогам на станцию. На обратном пути у меня как-то само собой сложилось:
|
Вьюга заметает Снежную дорогу, Но “козел” наш древний Едет понемногу.
Едет, едет - станет, Постоим, починим, Заведём и снова Потихоньку двинем.
Уезжал товарищ, Проводить решили. Вот он и уехал. Вот и проводили.
И на сердце грустно Почему-то стало, Будто с ним в вагоне Часть души осталась,
И её увёз он В дальнюю дорогу, Мне оставив только Смутную тревогу.
|
Мне за полтора года экспедиции довелось съездить в Кап. Яр раза три-четыре, обычно всего на несколько дней. Поездки эти были редкими прекрасными отдушинами в жизни, несмотря на то, что дорога была сложна и трудна, как я уже говорил.
Запомнилась одна такая дорога. Из-за того, что из нашей глухомани было непросто добраться по бездорожью до станции, я опоздал на местный поезд, которым должен был доехать до Свердловска. Пришлось ждать следующего. В результате я опоздал на поезд “Новосибирск-Харьков”, которым должен был доехать до Ртищево, и вынужден был сутки болтаться в Свердловске. Хорошо ещё, что было не холодно - весна на пороге. От Ртищево поезда на Волгоград ходили через день. Я-то рассчитал всё правильно, но из-за опоздания приехал в Ртищево как раз в тот день, когда поезда не было. Ещё сутки проторчал в Ртищево. Кроме досады из-за потери двух лишних суток в и без того длинной дороге, возникло ещё одно обстоятельство. Я не рассчитывал на такую долгую дорогу, и у меня кончились деньги. Последние 6 рублей (не считая НЗ на билеты) отдал за ночёвку в комнате отдыха на вокзале в Ртищево. Конечно, это было не так уж страшно. В поезде до Волгограда постель не брал - спал на своей шинели. Но есть хотелось здорово - я больше суток почти ничего не ел. Когда поезд уже подходил к Волгограду, ко мне подошла молодая женщина и спросила:
- А вы не в Кап. Яр едете?
- В Кап, Яр.
- Ой, а вы мне не поможете?
Оказалось, что она одна едет в Кап. Яр, а у неё куча вещей. Увидела лейтенанта и догадалась, что это свой, Кап. Ярский. Ну, как не помочь, тем более, что я еду налегке.
Взял я два её чемодана, и мы дотащились до парома. Сидим у пристани, ждём парома. Ждать ещё долго. Хорошо! Солнышко пригревает. Перед нами Волга. Скоро буду дома. Только вот есть очень хочется. Около полутора суток во рту ни крошки. И вдруг моя леди извлекает из сумки великолепную, румяную жареную курицу. Ух ты! Наверное, сейчас попируем! Но она поднесла курицу к носу, понюхала её с сомнением, потом поднесла к моему и спрашивает:
- Как, по-вашему, курица не испортилась?
От курицы исходил умопомрачительно аппетитный запах. Я сказал, что, по-моему, курица вполне нормальная. Но она ещё раз понюхала и решительно сказала:
- Нет, пожалуй, её есть не стоит.
И так же решительно бросила её в Волгу. Вот тебе и раз! Я сам готов был прыгнуть в Волгу за этой курицей.
Пришлось ещё часов 10 попоститься, до самого дома.
Наверное, у каждого в дороге часто бывают различные мелкие приключения, иногда забавные, чаще неприятные. Да и забавные видятся такими издалека, спустя время, а в момент, когда они происходят, они такими совсем не кажутся. Сколько их было у меня потом!
Расскажу ещё об одном таком дорожном приключении из “Уральской серии”.
В тот раз я приехал в Свердловск в лютый мороз, а нужный мне поезд уходил только на следующий день. Надо было где-то переночевать. Нередко в таких случаях я коротал ночь на вокзале. Но это и всегда было не слишком большим удовольствием - тьма народа с узлами, чемоданами, детьми, толчея, смрад, гомон, все скамейки заняты - а в этот раз уж особенно. Кроме пассажиров, мороз загнал на вокзал и местных, как сейчас назвали бы, бомжей. И я решил попытаться устроиться в гостинице.
Конечно, в гостиницах в те годы мест никогда не было. Как-то я встретил в журнале такую карикатуру: строят гостиницу и над входом сразу выкладывают камнем “Мест нет”. Говорят, что в каждой шутке есть доля правды, но в этой шутке правды было гораздо больше чем шутки.
Но я часто бывал в Свердловске и знал, что на окраине города есть мало кому известный Дом колхозника. Несмотря на непритязательное название это была неплохая гостиница (конечно, если смотреть на неё глазами того времени, а не нынешними). Я отправился туда. Шёл короткими перебежками, от магазина до магазина, так как быстро окоченевал. Мороз был серьёзный, а я-то не в меховом костюме и унтах, а в тоненькой шинельке, хромовых сапогах. В очередном магазине слегка отогревался - и снова вперёд.
Хотя я и знал положение с гостиницами, но на пути у меня была гостиница “Большой Урал”, и я решил попутно туда зайти - а вдруг! Мест, конечно, не было. Но пока я там выяснял обстановку и отогревался, я заметил молодую женщину, которая, чуть не плача, уговаривала администраторшу разрешить ей провести ночь здесь - хоть в коридоре, хоть сидя в вестибюле - куда же ей деваться ночью в такой мороз! Но администраторов гостиниц того времени слезами было не пробить. Они сами были, как упомянутая мной каменная вывеска. Мне стало жалко эту женщину, и я предложил ей идти со мной, пояснил, что я знаю гостиницу, где возможно есть места.
Пришли в Дом колхозника. Администратор там была гораздо добрее. Всё же не “Большой Урал”, а Дом колхозника на окраине города. Я объяснил ей, что нам надо только переночевать. Она прониклась сочувствием к молоденькому окоченевшему лейтенанту и его спутнице и сказала, что у неё есть один двухместный номер. Она даже не спросила у нас документов (видимо, не собиралась официально оформлять). Сказала только сколько надо заплатить и протянула ключ. И, видимо, на всякий случай, спросила:
- Вы муж и жена?
Я не успел и рта раскрыть, а моя напарница испуганно протянула:
- Неет.
Администратор сказала:
- Тогда я могу разместить только одного.
И спрашивает меня:
- Кого?
Я спросил, а нет ли ещё комнаты. Оказалось, что нет. Я мысленно ругал свою напарницу - черти тянули её за язык! Что она, боялась, что я посягну на неё что ли? Нужна она мне! Могли бы спокойно переночевать в одной комнате. Ночуют же в одном купе посторонние мужчины и женщины. А теперь куда мне деваться? Ругал и себя за проявленное сочувствие, которое таким боком мне вышло. Но делать нечего. Сказал:
- Размещайте её.
Женщина счастливая ушла в свою комнату, а я собрался в обратный путь. Но администратор, видимо, по-прежнему испытывая ко мне сочувствие и, может быть, оценив благородство моего поступка, сказала:
- Куда Вы сейчас пойдёте! Давайте, я Вам поставлю раскладушку в коридоре.
Я с радостью согласился и очень неплохо поспал в тихом тёплом углу коридора.
Однако, вырваться с Урала домой удавалось крайне редко, а долгие ожидания погоды были нашим почти постоянным состоянием, и каждый скрашивал это томительное ожидание как умел.
Некоторые шли традиционным путём - водка, женщины. Благо, условия для этого были самые благоприятные. В Уральских деревнях в ту пору население было почти исключительно женское. Деревня жила тогда очень плохо, и все стремились как-нибудь перебраться в город. Но поскольку в это время было, по существу, крепостное право, и колхозники не имели даже паспортов, вырваться из деревни было очень трудно. Однако, у мужчин какая-то возможность всё же была. Их призывали в армию, а после службы они старались любыми способами в деревню не возвращаться, что большинству удавалось. У женщин же такой возможности не было, да и вообще, они, в целом, более робки и пассивны. Вот и стали деревни сплошь женскими.
Для соответствующих любителей (а такие среди нас были) это открывало огромные возможности. Особенно отличался капитан N (в связи с деликатностью темы не стоит, вероятно, называть его фамилию). Однажды мы довольно долго стояли лагерем километрах в двух от деревни с символическим названием - Сарафановка. Тогда у меня сложилось впечатление, что N “переспал” со всеми женщинами этой деревни. Он там дневал и ночевал, и они ходили к нему в лагерь поодиночке и толпами. Иногда ему кто-нибудь из наших говорил что-то подобное тому, что много лет спустя написал Высоцкий: “Ты посмотри, она же грязная, да у неё же ноги разные”, но N только отмахивался: ”Ничего, для счёта сойдёт”. Особенно насмешил он однажды нас, когда просил у Белогородцева машину, чтобы поехать в деревню, а тот ему сказал: ”Иди пешком”. N возмутился: ”Где это видано, чтобы советский офицер в чине капитана на гулянку пешком ходил!” При этом вместо слова “гулянка”, которое я написал для приличия, он употребил более сильное, но, к сожалению, далеко не литературное слово.
Интересно отметить, что эти традиционные развлечения (водка, женщины) использовали “старослужащие”, т.е. офицеры в званиях, да и по возрасту постарше нас. Молодые же лейтенанты, а в особенности ребята из Спецнабора (а таких в экспедиции было четверо - кроме меня ещё Эдик Стеблин, Юрий Тубанов и Юрий Блистанов), этим не занимались. У нас были свои способы занять время. Летом возможностей для этого было побольше - рыбалка, грибы, ягоды, у некоторых охота.
Здесь хочется воздать должное изумительной природе Урала.
Могучие горы, производящие сильное впечатление какой-то дикой, древней красотой, причём красотой своей, особой, не похожей на красоту Кавказских гор.
Прекрасные леса, в которых есть всё: масса грибов, всевозможные ягоды, вплоть до дикой смородины (“сморода” - по Уральски) и вишни (“вишенье”), много дичи - тетерева, глухари, зайцы, утки. Однажды в молодом ельнике у самого нашего лагеря высыпало такое количество маслят, что их можно бы было набрать тонны. Они росли сплошным ковром, тут уж буквально была применима поговорка “хоть косой коси”. У нас даже родилась идея засолить несколько бочек. Но по молодости лет мы не знали, как это делается. Некоторые написали домой, попросили прислать рецепты засола, но пока пришли ответы, эти маслята уже состарились и зачервивели. Но грибов всё равно было столько, что однажды, например, мы с Блистановым ходили за грибами даже ночью. Я после полёта приехал в лагерь поздно, а оказалось, что на ужин только эта знаменитая солонина. Было уже темно, но была полная луна и ясное небо. Я подбил Блистанова, мы пошли в лес и при свете луны набрали немного подберезовиков себе на ужин. Дичи тоже было столько, что наши охотники всегда возвращались с хорошей добычей.
 Но особенное впечатление на меня производили
озёра Южного Урала, озёра необыкновенной красоты. Запомнилось, как мы однажды
решили поехать на рыбалку с ночёвкой на озеро Большой Еланчик. Оно расположено в
глухом лесу, дорога труднопроходимая. Но мы всё же пробились. На озере мы со
Стеблиным остались, а остальные поехали в какую-то ближайшую деревню, якобы
что-то купить и обещали скоро вернуться. Но не вернулись - видимо загуляли там,
что, впрочем, нас не очень удивило и не очень огорчило. Озеро было так красиво,
что я просто не сумею выразить словами впечатление, которое оно производило.
Вокруг лес, но лес не равнинный, потому что всё озеро расположено в каком-то
диком нагромождении гигантских камней, поросших соснами. Вода просто
хрустальная.
Но особенное впечатление на меня производили
озёра Южного Урала, озёра необыкновенной красоты. Запомнилось, как мы однажды
решили поехать на рыбалку с ночёвкой на озеро Большой Еланчик. Оно расположено в
глухом лесу, дорога труднопроходимая. Но мы всё же пробились. На озере мы со
Стеблиным остались, а остальные поехали в какую-то ближайшую деревню, якобы
что-то купить и обещали скоро вернуться. Но не вернулись - видимо загуляли там,
что, впрочем, нас не очень удивило и не очень огорчило. Озеро было так красиво,
что я просто не сумею выразить словами впечатление, которое оно производило.
Вокруг лес, но лес не равнинный, потому что всё озеро расположено в каком-то
диком нагромождении гигантских камней, поросших соснами. Вода просто
хрустальная.
На этом фото я на берегу Еланчика.
Был уже поздний вечер, быстро темнело. Мы с Эдиком облюбовали огромный камень, выдающийся в воду. Камень напоминал куб с гранью около 7 метров. Верхняя сторона камня была плоской, там удобно было переночевать, развести костёр, прямо оттуда можно было и удочки закидывать. Когда мы с Эдиком забрались туда, оказалось, что не нам одним понравилось это место. Посреди камня была гадюка. Пока мы засуетились, разыскивая какую-нибудь палку, гадюка подползла к краю камня, над которым террасой возвышался другой почти такой же, и попыталась втиснуться в расщелину между этими камнями. Она там не помещалась, и поначалу её хвост торчал наружу. Мы решили, что тут уж она никуда не денется. Эдик пошёл за палкой, а я остался караулить змею. Но она каким-то образом постепенно всё больше втягивалась в эту расщелинку, и вскоре хвост тоже исчез. Мы попытались выковырнуть её оттуда принесённой Эдиком палкой, но ничего не вышло, мы её даже не нащупали. Тогда мы решили её оттуда выкурить и развели у расщелинки костерок. Никаких результатов. Перед нами встала дилемма: либо ночевать здесь с риском, что змея выползет, либо искать другое место. Но было уже довольно темно, и камень нам понравился - мы решили остаться. Спокойно переночевали (змея нас не потревожила), с рассвета прекрасно порыбачили, а днём за нами приехали остальные “рыбаки”.
Под впечатлением красоты этого озера я написал такое шуточное стихотворение, нарочито подражая Маяковскому:
|
Озеро Рица знают все. Был я на Рице, на этой самой. Ничего особенного в его красе, Просто - воспето рекламой.
Зато, никто не слыхал о Еланчике, Ну, может быть, специалисты, географы. Здесь в ресторанах не опустошают карманчики, И в списках курортов нет для него графы.
Но, если ты ценишь красоту природы, А не шик ресторанов и чайных, Если хочешь присутствовать при родах Красоты необычайной, Такой, что хоть картину пиши с неё, В крупном плане или в мелком планчике - Ты должен, хотя бы один раз в жизни, Встретить рассвет на Еланчике. |
Зимой занять своё время возможностей было меньше. Оставались книги, карты, шахматы. Валялись в кроватях - куда деваться-то. Режим весь как-то сбился. Мы могли спать до полудня, а часа в два ночи проснуться и сесть играть в преферанс. И он надоел. Однажды, помню, устроили довольно забавный литературный диспут по плакату, который висел над кроватью Тубанова. Там под соответствующим рисунком было подписано, что передовая советская молодёжь едет на освоение целины, а вот этот (этакий карикатурный парень) - к тёще на блины. Каждый выступил с докладом. Кто-то клеймил антигероя плаката, кто-то напротив доказывал его разумность и трезвый взгляд на жизнь. Пародирование бывавших в ту пору на собраниях и в прессе диспутов получилось довольно смешным. Но, в общем, время проходило бездарно.
Зато результаты работы были достаточно интересными. Система БРК оказалась довольно критичной к рельефу местности на позиции. Вероятно, если бы полигон располагался не на плоской как стол и сухой Астраханской земле, а на Урале, система давно бы себя скомпрометировала. Конечно, мы, уже зная каким требованиям должна удовлетворять позиция, и на Урале смогли бы найти подходящие участки местности, но таких было не много. А учитывая, что позиция БРК должна быть жёстко привязана к стартовой позиции ракеты (строго на линии стрельбы и на определённом расстоянии от старта), сделать это было бы очень трудно.
Программа наших работ на Урале, хотя и медленно, но завершалась, и, наконец, настал день, когда я смог написать:
|
Впервые за долгие эти недели Жду с нетерпением завтрашний день я. Прощайте, снега, морозы, метели - Я покидаю ваши владенья! Не спится. Уже за окном мгла тает. Прощай Кундравинский мирок! Пусть паровоз торопливо глотает Шпалы далеких дорог.
И вскоре:
За синью гор растаяли Кундравы, Исчез Миасс и скрылся Златоуст. Прощай Урал, седой и величавый! Надеюсь, что я больше не вернусь. |
Уральская экспедиция осталась в прошлом, заняв прочное место в моей памяти. Я здесь не рассказал и десятой доли того, что там происходило и что крепко врезалось в память.
В Кап. Яре была работа над отчётом по НИР и над новой инструкцией по выбору позиций БРК, той самой, которую вскоре без всяких аргументов отверг Борисенко. Это заняло много времени, хотя я работал очень интенсивно, так как хотел быстрее всё закончить и пойти в отпуск. В 1957 году в июле в Москве должен был пройти Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, на который мне очень хотелось попасть. Такое мероприятие в СССР проводилось впервые и казалась почти невероятной возможность увидеть в нашей стране людей из других стран.
Я закончил свою работу вовремя, но на фестиваль всё равно опоздал, попал на него уже “под занавес”, так как мне было приказано ждать, когда мои материалы рассмотрит руководство полигона, с тем, чтобы оперативно доработать их, если будут какие-нибудь замечания.
Замечаний не было, и мы с Ритой поехали в Москву. Хотя фестиваль уже заканчивался, всё равно было очень интересно - впервые в жизни я видел живых иностранцев, которые были для меня тогда почти как инопланетяне. Хотя, конечно, я мог смотреть на них только издали, а уж о том, чтобы поговорить с кем-нибудь из них - я и помыслить не мог! Это было бы грубейшим нарушением режима секретности, за соблюдение правил которого я много раз расписывался.
Тогда я и представить себе не мог, что доживу до такого времени, когда иностранцы станут для меня обычными людьми со своими достоинствами и недостатками, что они будут свободно приезжать в нашу страну и довольно свободно по ней перемещаться, так же, как и наши люди по их странам, что я спокойно буду с ними общаться, работать и ничего ужасного от всего этого не случится.
Раз уж я затронул тему режима секретности, хочется сказать вот о чём. На полигоне в этом отношении гайки были закручены до предела. Городок закрытый. Пропуска. Приехать ко мне имеют право только родители. Скажем, братьям и сёстрам разрешения уже не дадут. О других родственниках, а тем более о друзьях, и говорить нечего. В то же время, всё по-русски. Со стороны железной дороги, которая проходит мимо городка, на большом протяжении забора нет - проходи кто хочет. Говорили, что на одном из партактивов какой-то офицер набрался смелости и сказал:
- Вот родной брат приехать ко мне не может. А я лично берусь провести роту солдат на любой из самых охраняемых объектов нашего гарнизона.
Говорят, что Вознюк не возразил на это ни слова.
Много позже, когда я уже служил в Генеральном штабе, я однажды приехал в командировку во Владимировку, точнее в то время уже город Ахтубинск, на полигон ВВС. Там проходили испытания нового самолётного локатора, а в это время в Кап. Яре находились французы, которые работали по программе “Интеркосмос”. Испытания локатора проводились на земле, антенна располагалась на высоте всего полтора метра, и у нас была задача - убедиться, что излучение распространяется недалеко, и его нельзя обнаружить на технической позиции Кап. Ярского полигона, где работали французы (20-я площадка). Ночью мы выехали с аэродрома в степь на машине с разведывательным приёмником. Неожиданно оказалось, что излучение распространяется гораздо дальше, чем мы ожидали. Что было тому причиной - не знаю. Может быть специфический рельеф местности, может быть большое количество всевозможных линий передач в степи между двумя этими полигонами. Но нам пришлось ехать гораздо дальше, чем мы предполагали, чтобы найти границу обнаружения сигнала. Мы проехали несколько площадок полигона от самых дальних до городка и въехали в городок, проехали при этом через четыре КПП (контрольно-пропускные пункты) не имея никаких пропусков! Какие приёмы мы для этого применяли - другой вопрос. Вряд ли стоит тратить время и место здесь на их описание, но, по-моему, это достаточно характеризует формальность этого самого режима секретности.
Письма наши на полигоне, выражаясь интеллигентно, перлюстрировались. Нельзя было писать ничего, что содержало бы хотя бы намёк на то, что я военный.
Любопытный случай произошёл с упомянутым мной в начале этих записей Валерием Суходольским. Он был талантливейшим фотохудожником, любителем в ту пору, впоследствии же он стал фотокорреспондентом “Красной Звезды”. Человек достаточно активный, выезжая в отпуск, он предлагал свои работы многим редакциям газет и журналов. И многие журналы и газеты публиковали их. Чтобы не нарушать режим секретности, адрес он указывал не свой, а своей матери, которая жила в маленьком городке Сретенье, около Ярославля. А уж она ему пересылала корреспонденцию. Очень известный тогда в мире фотографии журнал “Чешское фото” где-то увидел его работы и попросил прислать им что-нибудь. Валерий послал (конечно, как всегда, через Сретенье). Работы опубликовали. Потом ещё пару раз. И вдруг Валерий получил письмо из американского журнала “Модерн фотографи” (опять-таки через Сретенье) о том, что им очень понравились его снимки в “Чешском фото”, и они тоже просят его прислать им что-нибудь из его работ. Он послал одну фотографию тем же путём. Она была опубликована, и редакция попросила прислать ещё. И тут же Валеру вызвали особисты. Его вызывали много раз. Ему как бы и не предъявляли определённых обвинений, но много раз допрашивали (если не лицемерить, то именно так это можно назвать), многократно задавая одни и те же вопросы в разных сочетаниях и, видимо, надеясь, что если он врёт, то где-то запутается. А Валера тем временем думал - что же делать с тем, что его просили прислать ещё фото. Посылать в этой ситуации вроде бы нельзя, но, если он промолчит, там могут подумать, что он не получил их письмо и повторят запрос. А это сразу резко обострит подозрения особистов. В конце концов он попросил мать отправить какую-то весьма посредственную фотографию, и американцы от него отцепились.
На тему о режиме секретности на полигоне ещё много можно рассказать и смешного, и грустного, но моё повествование и без того изрядно затянулось.
Неожиданно для меня Уральская экспедиция принесла очень ценный для нас результат совсем как бы в другой области. В лаборатории сменился начальник. Подполковника Юртайкина не любили (мягко выражаясь) на полигоне, по-моему, все: и подчинённые, и офицеры смежных отделов, и руководство полигона, и даже собственная жена, жизнь которой он превратил чёрт знает во что. Но до той поры никто его не трогал. Может быть потому, что он всё делал как-то нарочито правильно, и трудно было к чему-то придраться, а может быть, просто еще не допёк по-настоящему. После же Уральской экспедиции причины нашли. Во-первых, там был отмечен ряд нарушений (от потери осциллограммы до ставших известными случаев пьянки и некоторых других нарушений дисциплины), а во-вторых, его обвинили в том, что, приезжая на Урал, он, вместо того, чтобы навести должный порядок в подчинённых ему подразделениях, писал бесконечные рапорты на имя начальника полигона. Я сам читал один из таких рапортов, подшитый в дело: “…когда я прибыл на позицию, то пришёл в ужас: снег в радиусе десяти метров был испещрён следами отправления малой нужды. А для отправления большой нужды отходили не дальше, чем на двадцать метров”. Звучит смешно. Но он много делал такого, что не знаешь, смеяться или плакать. По-моему, он был просто психически ненормальный человек. Ну, не может нормальный человек делать такие вещи! Рассказывали, что незадолго до нашего приезда, когда умер от теплового удара начальник нашей лаборатории, полковник (не помню его фамилии), тогда непосредственный начальник Юртайкина, был такой случай. Дня за два до его смерти Юртайкин дал ему попользоваться фотографический экспонометр. Не такой, как появились потом, электронный, а простенький бумажный диск, вращая который, по написанным на нём данным можно было примерно оценить нужную экспозицию. Стоил он копеек двадцать. Так вот, как только Юртайкин узнал, что тот умер, он на следующий же день явился к его жене и стал требовать вернуть ему экспонометр. Она сказала, что да, конечно, она поищет и вернёт, но не сейчас, сейчас ей не до того. Но Юртайкин устроил целый скандал, требуя вернуть немедленно. Нас тогда ещё не было на полигоне, но, хорошо зная Юртайкина, я верю, что так было. Это вполне в духе Юртайкина. Подобных, хоть и не таких экстремальных случаев при мне было очень много.
Бывает, что некоторые люди чем-то напоминают каких-то животных. Внешностью ли, повадками, ещё чем-то неуловимым. Лошадь, корову, овцу, верблюда, жабу. Юртайкин напоминал мне змею - маленькая головка, маленькие сверлящие застывшие глазки, такая же застывшая натянутая улыбка, тихий, скрипучий, никогда не повышающийся голос. Вот уж к кому в полной мере применимо Лермонтовское: “Глаза его не смеялись, когда он смеялся”.
У Юртайкина была патологическая…не знаю, как это назвать. Жадность, скупость - это было бы неверно. Хозяйственность? В данном случае это звучало бы карикатурно. Лучше поясню на примерах. Стеблин в лаборатории хочет заточить карандаш и спрашивает:
- У кого есть бритвочка?
Юртайкин пальчиком манит его:
- Товарищ лейтенант! Вот возьмите, только не забудьте вернуть.
И достаёт из шкафа за своей спиной (всегда запертого в его отсутствие) старенькую, уже зазубренную бритвочку. Настоящий конвертик её, видимо, уже износился, и она аккуратно завёрнута в самодельный конвертик из газеты.
И попробуй забыть, не вернуть! Он сто раз напомнит и не успокоится, пока вещь не вернётся на место. Нужно ли говорить, что бритвочка тогда стоила копейки, и из-за плохого качества бриться ей можно было два-три раза, поэтому множество таких бритвочек каждый выбрасывал.
И это не какой-то исключительный случай, а типично для Юртайкина. Однажды кто-то из наших ехал с ним на Урал и обратил внимание, какая у него мыльница. Стандартная тоненькая пластмассовая мыльница, стоимостью в 23 копейки, давно в некоторых местах сломалась, но все кусочки аккуратно скреплены металлическими скрепочками, и она продолжает служить.
Как будто бы и не такая уж плохая черта, но, как и многие другие черты, она карикатурно гипертрофирована и превратилась в какую-то патологию.
То же самое было и в его организаторской деятельности руководителя лаборатории. Он старался всё предусмотреть и всё расписать своим подчинённым, так что им ничего не оставалось делать, кроме как выполнять всё расписанное “до буквы”. На работе он детально излагал мне, что и как я должен сделать завтра, но стоило мне придти с мотовоза домой, как через пару минут вслед за мной являлся Юртайкин и говорил:
- Товарищ лейтенант, пока я шёл с мотовоза, мне в голову пришло пять мыслей.
И начинал излагать эти мысли, связанные с завтрашней работой, нередко повторяя то, что он уже говорил мне на работе (то ли забывал, что уже говорил это, то ли боялся, что я забуду).
Это часто нервировало, так как его указания не оставляли места для каких-то самостоятельных решений и, к тому же, иногда плохо соответствовали реальной действительности. В то же время это впечатляло. Помню, когда Юртайкин первый раз при мне уходил в отпуск, я думал - как же мы будем без него? Ведь он организовывает всё до последней мелочи.
К моему удивлению, без него работа шла ничуть не хуже, а обстановка была несравненно спокойнее и доброжелательнее. Юртайкин умел удивительно взвинчивать обстановку и нервировать людей. Когда я работал на борту вертолёта, я даже по характеру работы определял, что на наземной позиции появился Юртайкин. Например, работа шла нормально, и вдруг начались странности. Мы вошли в зону, а кинотеодолитной съёмки нет. Проверяю контакты, не отошло ли что-нибудь. Вертолёт тем временем выходит из зоны, и вдруг начинается запоздалая и уже ненужная съёмка. Ясно. На позиции Юртайкин. Он задёргал людей, и пошла неразбериха. При этом он никогда не кричал, не ругался, даже не повышал голоса. Нередко кому-нибудь из нас он своим тихим, но удивительно неприятным голосом говорил:
- Товарищ лейтенант, я вами очень недоволен.
По-моему, вся эта патология и это преувеличение своей роли и своего значения - это просто психическое заболевание, вероятно, полученное им при учёбе в академии, может быть, от большого напряжения человека, не привыкшего к таким усилиям и старающегося сделать всё как можно лучше. Во всяком случае, его жена говорила, что до академии он был совсем другим человеком, а после академии стал ей заявлять, что он очень полезный стране человек - и пошло, поехало. Подтверждается это и ещё одним свидетельством. Гена Беспалов много лет спустя однажды встретился с каким-то офицером, который служил с Юртайкиным до академии. Когда он узнал, какой одиозной фигурой стал Юртайкин на полигоне, он страшно удивился и сказал, что тогда он был прекрасным парнем.
Но болен он был или здоров - никого не интересовало, а вот избавиться от него мечтали многие. Поэтому, когда Уральская экспедиция дала зацепки, с ним моментально и сурово расправились. Его исключили из партии и уволили из армии.
Начальником лаборатории стал Аркадий Прокофьевич Самохвалов. Тогда он был майором. В конце службы на полигоне он был заместителем начальника полигона по измерениям - начальником измерительного управления. Это был совсем другой человек. У меня остались о нём самые лучшие впечатления. К сожалению, его уже нет на свете, умер совсем не старым. Вероятно, сказалась его нелёгкая судьба. Он воевал. В 1941 году на Карельском фронте поздней осенью они долго держали оборону в окопах, наполовину залитых ледяной водой. С тех пор у него остался сильнейший радикулит и хронический кашель, который иногда, казалось, чуть не выворачивал его наизнанку. От сотрясения при этом кашле схватывало спину так, что он скрипел зубами от боли.
Хороший специалист, умный, энергичный, доброжелательный человек. Довольно темпераментный. Кажется, в нём была какая-то часть греческой крови. Собственно, и на полигон он попал из-за своего темперамента. Он работал в военной приёмке в Москве, и однажды в ресторане он вместе с майором Павлом Гусевым побил каких-то иностранцев. Побили за дело, но - скандал. В армии такие вещи не прощаются, вот их и сослали в Кап. Яр, где они попали в нашу лабораторию. Гусев, правда, через небольшое время сумел вернуться в Москву, а Самохвалов так и закончил свою службу на полигоне.
Для меня он на всю жизнь остался образцом того, как можно строить отношения с подчинёнными. Многие начальники полагают, что должная дисциплина и полноценная отдача от подчинённых могут быть достигнуты только, если подчинённые будут их бояться. Аркадий Прокофьевич вёл себя совсем по-другому. У него были буквально дружеские отношения с подчинёнными офицерами, но без какого-либо панибратства. Он с удовольствием проводил с нами и внеслужебное время, на рыбалке, дома, в занятиях радиолюбительством или автолюбительством. И вместе с тем, отношения складывались так, что никто из нас никогда даже не помыслил бы злоупотребить этим и попытаться уйти от какого-то неприятного задания или схалтурить где-то. Наоборот, наше хорошее отношение к начальнику распространялось и на наше отношение к делу, и мы старались выполнять свою работу ещё лучше, чем раньше.
Интересным было его отношение к свободному времени на работе. Несмотря на довольно большую загрузку, когда нам периодически приходилось работать сутками, бывали иногда какие-то промежутки времени, когда делать было нечего. Юртайкин в таких случаях говорил: “Изучайте техническую документацию”, хотя, как я уже упоминал, кроме технических формуляров на аппаратуру, которые не только изучить, но и выучить наизусть можно было за полчаса, изучать было нечего. У Самохвалова была другая стратегия. Он поощрял радиолюбительство. Он и сам любил повозиться со схемами, и хорошо понимал, что занятия радиолюбительством - это прекрасная профессиональная подготовка для офицеров радиотехнической лаборатории.
А возможности в этом отношении были у нас великолепные. В лаборатории было множество самых современных приборов. Причём это были не штатные приборы лаборатории, а приборы, привезенные и оставленные у нас “промышленниками”. Я уже много раз говорил, что для ракетной техники тогда ничего не жалели и денег не считали. Ребята из НИИ-885 рассказывали, что, когда у них формировался эшелон на полигон, туда грузили новейшие приборы, инструменты, оборудование, и, как только эшелон выходил за ворота института, всё это списывалось. Кое-что из этого они потом увозили в Москву, себе в личное пользование (похоже, что и специально включали нужные себе вещи в состав вывозимого), но львиная доля оставалась на полигоне. Поэтому в лаборатории были такие приборы, которыми вряд ли могло похвастать, скажем, КБ телевизионного завода. Впрочем, все известные мне телевизионные заводы (Московский телевизионный завод - впоследствии “Рубин”, Московский радиозавод - “Темп”, Львовский телевизионный завод) в то время телевизоры делали так, между прочим. Основной для них была военная продукция - системы телеметрии.
Вообще интересно было это приоритетное оснащение полигона новейшей техникой, даже не необходимой для выполнения основных работ. Однажды кто-то из нашей кинофотолаборатории рассказывал, как он приехал в Москву получать какие-то новейшие, страшно дефицитные и дорогие импортные кинокамеры. Их даже крупнейшим киностудиям страны, таким, как Мосфильм, Ленфильм, выделили по одной - две. И все квадратными глазами смотрели, как пришёл какой-то никому не известный офицер и получил штук пять.
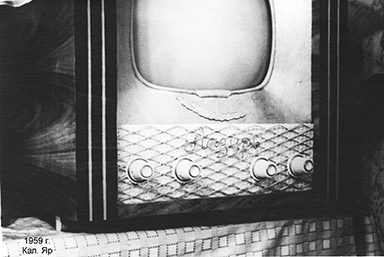 Такое приборное оснащение позволяло нам
настраивать различную любительскую аппаратуру и, главное, глубоко изучать работу
различных схем. Многие из нас тогда делали телевизоры - начал вещание телецентр
в Волгограде. Используя возможности оборудования лаборатории, мы при этом не
слепо копировали готовые схемы, а детально изучали различные варианты схемных
решений, в том числе с применением таких элементов, которые из-за дефицитности
не использовались в ширпотребовской аппаратуре, а только в военной. Сделал и я
телевизор, вот он на фото.
Такое приборное оснащение позволяло нам
настраивать различную любительскую аппаратуру и, главное, глубоко изучать работу
различных схем. Многие из нас тогда делали телевизоры - начал вещание телецентр
в Волгограде. Используя возможности оборудования лаборатории, мы при этом не
слепо копировали готовые схемы, а детально изучали различные варианты схемных
решений, в том числе с применением таких элементов, которые из-за дефицитности
не использовались в ширпотребовской аппаратуре, а только в военной. Сделал и я
телевизор, вот он на фото.
Постарался по возможности прилично оформить – сделал ящик, лицевую панель и даже изобразил на ней придуманное ему название, «Лазурь». С современных позиций выглядит смешно – маленький экран, ручки настройки. Но это с современных позиций. А тогда он по параметрам не уступал тем телевизорам, что были в продаже в нашей стране, в том числе по размеру экрана (диагональ 35 см.). Этот телевизор прекрасно служил нам в Кап. Яре до самого нашего отъезда оттуда, и потом служил ещё в Москве вплоть до того времени, когда появились в продаже телевизоры на новых трубках с диагональю 47 см. Вот тогда я купил новый телевизор, а свой разобрал на детали.
В этот период начиналась величайшая революция в радиоэлектронике, масштабы и значение которой тогда мало кто мог оценить: на смену привычным и, казалось, незаменимым радиолампам начали приходить полупроводниковые приборы. Поначалу ещё очень несовершенные, неспособные в большинстве областей радиоэлектроники конкурировать с радиолампами, они, тем не менее, с самого начала открывали много новых возможностей.
Одна из первых попыток практического применения полупроводников для бытовых целей в нашей лаборатории была такой. Лаборатория занимала большую комнату в МИКе (монтажно-испытательном корпусе) на второй площадке. По требованиям режима дверь в лабораторию всегда должна быть заперта. Но ведь поминутно кому-то надо было войти. И свои (а в лаборатории было около двух десятков человек), и офицеры других отделов должны были стучать, и кто-то должен был встать и идти открывать дверь. Это надоедало. Тогда мы установили на двери самодельный электромагнитный замок, изготовленный из мощного реле. Установили в комнате несколько кнопок, при нажатии на которые электромагнит оттягивал язык замка. Но, поскольку при отпускании кнопки замок сразу же снова запирался, то, чтобы не держать кнопку долго нажатой, подпружинили дверь и повесили снаружи загорающийся транспарант с надписью “Войдите”. При нажатии кнопки вспыхивал транспарант, и дверь сама приоткрывалась. Некоторое время все были довольны. Но потом выявился недостаток в этой системе. Часто за теми столами, где были кнопки, никого не было, и, чтобы открыть дверь, всё равно надо было вставать со своего места и идти, только не к двери, а к другому столу. Можно было, конечно, просто увеличить количество кнопок, но мы пошли более интересным путём. Инициативу проявил Александр Мишин, прекрасный инженер, один из лучших, которых я встречал в своей жизни. Хотелось бы рассказать побольше об этом незаурядном человеке, как и ещё о некоторых моих друзьях по спецнабору, ярких и талантливых людях. Если у меня хватит времени и возможностей, я ещё расскажу о них.
Так вот, Мишин решил использовать новые возможности полупроводниковых триодов (слово “транзистор” тогда не употреблялось, ещё свежа была в памяти борьба с космополитизмом) и сделать радиозамок. Он изготовил маленький карманный передатчик на одном триоде и батарейке, а на магнитном замке поставил сделанный им же приёмник, тоже на транзисторах (буду для краткости пользоваться современным термином). Идея состояла в том, что у каждого будет в кармане такой передатчик, и любой из нас сможет открывать дверь с любого места, в том числе, конечно, и из коридора.
Было очень весело дурачить знакомых. Мы подходили по коридору к нашей двери с кем-нибудь из другого отдела, и, держа руку в кармане, кто-то из нас произносил:
- Сим-Сим, откройся!
И нажимал в кармане кнопку передатчика. Лязгал замок, приоткрывалась дверь, и вспыхивал транспарант “Войдите”. Это производило впечатление. Карманная радиоаппаратура тогда не была обыденностью, и люди не понимали почему срабатывает замок. Некоторые думали, что это какое-то акустическое устройство, и пробовали тоже произнести эту “волшебную” фразу из “Тысячи и одной ночи”. Естественно, ничего не получалось. А мы объясняли, что наша дверь знает нас по голосам.
Правда, надо сказать, что для практического применения идея оказалась мало пригодной. Мощность излучения транзистора была мала, и замок срабатывал только тогда, когда передатчик был близко. Попытки же компенсировать этот недостаток повышением чувствительности приёмника привели к тому, что замок стал иногда срабатывать от каких-то помех (каких на технической позиции оказалось достаточно). Никого нет, а замок вдруг лязгает, дверь открывается и надо опять вставать, и идти к двери, только теперь не для того, чтобы открыть её, а для того, чтобы закрыть.
 Весь дух нашей лаборатории, когда её возглавил
Самохвалов, стал совсем иным, и работать стало гораздо интереснее. Мы, как и
раньше, проводили испытания, давали замечания и рекомендации по их устранению,
но наши исследования были более глубокими. Мы даже занимались моделированием
полёта ракеты с системой БРК в условиях различных возмущающих факторов.
Исследования проводились с помощью электронной аналоговой машины ИПТ-4, которой
“командовал” Иван Рыжанков (тоже из спецнабора). На фото справа мы возле этой
самой ИПТ-4. Слева направо: Иван Рыжанков, Саша Мишин, я и Женя Елисеев.
Весь дух нашей лаборатории, когда её возглавил
Самохвалов, стал совсем иным, и работать стало гораздо интереснее. Мы, как и
раньше, проводили испытания, давали замечания и рекомендации по их устранению,
но наши исследования были более глубокими. Мы даже занимались моделированием
полёта ракеты с системой БРК в условиях различных возмущающих факторов.
Исследования проводились с помощью электронной аналоговой машины ИПТ-4, которой
“командовал” Иван Рыжанков (тоже из спецнабора). На фото справа мы возле этой
самой ИПТ-4. Слева направо: Иван Рыжанков, Саша Мишин, я и Женя Елисеев.
Машина, конечно, была примитивной, с точки зрения современности. Да и модель тоже. Она включала в себя много “живых” приборов и систем ракеты. Рулевые машинки с нагрузочными стендами и датчиками отклонения рулей, бортовые приборы БРК, созданный нами генератор сигналов БРК с управляемым ферритовым модулятором, позволяющим имитировать сигнал при отклонении ракеты от плоскости стрельбы и т. д. Сама же методология моделирования была достаточно прогрессивной и давала много интересных результатов. Тогда она ещё редко использовалась. Тут мы, похоже, слегка заглянули в будущее.
 Много занимались мы и модной тогда
рационализаторской работой. Причём, если большинство рацпредложений на полигоне
было по совершенствованию методик испытаний ракет и по устранению выявленных
недостатков, то в нашей лаборатории нередко в качестве рацпредложений
оформлялось создание каких-то приборов на новых принципах, иногда, как я теперь
понимаю, где-то близко к изобретению. Особенно отличался этим Александр Мишин.
Его предложения по дистанционному измерению температуры с помощью обратно
включённых полупроводниковых диодов, а также по использованию полупроводниковых
диодов в качестве элемента хронирующего звена некоторых схем были тогда новым
словом в радиоэлектронике. Не случайно серьёзный научный журнал “Радиотехника”
опубликовал несколько его статей. На фото слева одна из моих «Справок
рационализатора».
Много занимались мы и модной тогда
рационализаторской работой. Причём, если большинство рацпредложений на полигоне
было по совершенствованию методик испытаний ракет и по устранению выявленных
недостатков, то в нашей лаборатории нередко в качестве рацпредложений
оформлялось создание каких-то приборов на новых принципах, иногда, как я теперь
понимаю, где-то близко к изобретению. Особенно отличался этим Александр Мишин.
Его предложения по дистанционному измерению температуры с помощью обратно
включённых полупроводниковых диодов, а также по использованию полупроводниковых
диодов в качестве элемента хронирующего звена некоторых схем были тогда новым
словом в радиоэлектронике. Не случайно серьёзный научный журнал “Радиотехника”
опубликовал несколько его статей. На фото слева одна из моих «Справок
рационализатора».
Моральный климат лаборатории (простите за такое вычурно-официозное выражение) тоже стал несравненно лучше. Конечно, и раньше у нас, спецнаборовцев, были прекрасные отношения и друг с другом, и с другими офицерами, но при Юртайкине в лаборатории мы чувствовали себя как-то напряжённо, “не дома”. При Самохвалове лаборатория действительно стала нашим вторым домом. Что только не затевалось, когда выпадали свободные минуты! Например, Эдик Стеблин, человек с совершенно феноменальной прыгучестью, увлёк нас прыжками в длину с места. В лаборатории на полу была отмечена стартовая половица, и все регулярно прыгали, отмечая свой лучший результат персональной кнопкой. Результаты постепенно росли, но между кучей наших кнопок и красовавшейся в гордом одиночестве кнопкой Стеблина всегда оставалось добрых пол метра. Прыгучесть Стеблина была поразительна. Ему, например, ничего не стоило стать перед стулом с высокой спинкой и с места, оттолкнувшись двумя ногами, перепрыгнуть через этот стул. Когда он прыгал, мне казалось, что у него существует какой-то тайный сговор с земным притяжением. Он прямо как будто зависал в воздухе.
 Раз уж я заговорил об Эдике Стеблине, хочется
рассказать о нём подробнее. Вот он на фото.
Раз уж я заговорил об Эдике Стеблине, хочется
рассказать о нём подробнее. Вот он на фото.
Познакомился я с ним в академии. Мы учились на одном курсе и жили в одной комнате общежития. Но тогда наше знакомство было довольно “шапочным”. На курсе 100 человек, учились вместе недолго, чуть больше года, и даже в нашей 22-й комнате общежития мы размещались далеко друг от друга: наш ряд коек вдоль окон, а их - у противоположной стены. Но на полигоне мы с самого начала и до конца его службы там работали бок о бок. Да и жили в одном доме. Я на первом этаже, а он на втором, прямо надо мной. У нас даже была система связи. Чтобы вместе выйти и идти на мотовоз, мы подавали друг другу сигнал стуком по трубе парового отопления.
Эдик и ещё несколько человек на нашем курсе в академии были призваны из Ленинградского политехнического института и имели очень хорошую теоретическую подготовку не столько даже в области чистой радиоэлектроники, а в более широком диапазоне физики. Окажись Стеблин не офицером на полигоне, а каким-нибудь научным сотрудником в академическом институте, он, вероятно, стал бы типичным учёным теоретиком. У него даже была пресловутая профессорская рассеянность. Он, совершенно не по злому умыслу, зачастую забывал и терял где-то различные вещи, забывал вернуть что-то, взятое у других. Когда же у него спрашивали, он обычно говорил: “Я у тебя не брал”, или: “Я тебе уже отдал”, причём, повторяю, совершенно не по злому умыслу. Видимо, все эти бытовые вещи, как ненужные мелочи, проходили мимо его внимания и не удерживались у него в голове. Однажды был такой эпизод. На второй площадке у входа в корпус была общая вешалка, где все раздевались. Эдику днём зачем-то пришлось ехать на десятую площадку, в штаб. Он оделся и при этом взял чужую шапку, причём шапку лётчика (впоследствии оказалось, что это шапка Танкиевского), даже не обратив внимания, что на ней не кокарда, как у всех нас, артиллеристов, а лётная эмблема, не говоря уже о том, что она отличается по размеру и новее, чем его шапка. Приехал в штаб, там разделся в гардеробе, а когда выходил, и гардеробщица подала ему его шинель и эту шапку, возмутился:
- Что Вы мне даёте! Я же артиллерист, а это шапка лётчика!
Гардеробщица смутилась, но сказала, что эта шапка висела на его номере. Эдик вместе с ней осмотрел оставшуюся в гардеробе одежду (было уже поздно и её было немного), но своей шапки не нашёл. Тогда он отцепил лётную эмблему, оставил её гардеробщице и стал ходить в новой шапке. Так он ходил несколько дней, пока его не увидел Танкиевский, горевавший, что кто-то подменил его шапку. Танкиевский увидел на Эдике шапку со следом снятой авиационной эмблемы, узнал в ней свою и чуть не набросился на Эдика с кулаками. Но недоразумение быстро выяснилось.
Глубокая общетеоретическая подготовка Стеблина в области физики оказалась очень полезной при выполнении тех НИР, о которых я рассказывал. В ряде случаев он очень хорошо подводил научно-теоретическую базу под результаты наших экспериментов. В то же время, в нашей лаборатории, где практически все занимались радиолюбительством, далёкий от паяльника Стеблин, видимо, чувствовал себя белой вороной. Поэтому однажды и он засел за паяльник и потом долго всем рассказывал со смесью гордости и самоиронии о том, что он сделал двухполупериодный выпрямитель.
В одной из первых армейских характеристик Стеблина, кажется ещё в институтской, было записано: “хитроват”. Об этой записи знали, по-моему, все. Во-первых, Эдик сам об этом любил рассказывать, а во-вторых, уж больно выделялась такая характеристика на фоне тех суконно-казённых слов, которыми писались армейские аттестации. Похоже, что Эдик втайне слегка гордился своей “хитроватостью”. Но на самом деле он, по-моему, не был хитроват. Все его хитрости были довольно наивными и простодушными. Не зря ведь герцог Де Ларош Фуко говорил, что люди охотно признаются в недостатках, которых у них на самом деле нет, но не признаются в своих действительных недостатках. Но иногда известность этой характеристики Эдику досаждала. Бывало, что кто-нибудь, раздосадованный каким-нибудь поступком Стеблина, цедил сквозь зубы: “хитрова-ат”. Однажды, защищаясь, Эдик сказал:
- А вот Суворов говорил: “Тот уже не хитёр, о ком все говорят, что он хитрый”.
И, действительно, эти слова, по-моему, можно в полной мере отнести к Стеблину.
Но вот что резко отличало Стеблина от образа типичного учёного-теоретика - это его атлетизм. В Кап. Яре это был сильный, атлетического сложения спортивный парень (почему я делаю эту оговорку - “в Кап. Яре” - будет ясно из последующего). О его прыгучести я уже говорил. Можно добавить только, что он выполнял когда-то существовавшую норму мастера спорта по тройному прыжку с места. Потом такой вид спорта перестал существовать, остался только тройной прыжок с разбега. Тут Стеблину было труднее показывать выдающиеся результаты - скорость бега была недостаточной. Это не значит, что он плохо бегал - гораздо лучше большинства из нас, но не на уровне мастера спорта.
Ещё он прекрасно толкал ядро. Например, мой лучший результат был около девяти метров (хотя я в юности занимался в легкоатлетической секции ЦДКА - Центрального Дома Красной Армии), Эдик же толкал ядро на 13 метров (в то время рекорд СССР был 16 м. 12 см.) и был рекордсменом полигона. Его рекорд оставался непобитым и много лет спустя после его отъезда. Подозреваю, что он, возможно, не побит и до сих пор.
Естественно, что человек с таким прыжком был ценным приобретением для волейбольной команды, и Эдика всегда включали во всевозможные сборные по волейболу - и на полигоне, и потом, в НИИ-4. Нельзя сказать, что у него был очень хороший удар, или очень хорошая реакция при игре в защите, но он нередко мог пробить выше блока, или поставить такой блок нападающему противника, что у того не оставалось никаких шансов.
Во время выполнения наших НИР незаурядную теоретическую подготовку Стеблина приметили учёные мужи из НИИ-4, с которыми он продолжал поддерживать контакты и позже. В конце концов, через год или два им удалось перетащить Стеблина к себе.
В НИИ-4 Стеблин защитил кандидатскую диссертацию и работал довольно долго. В конце же его службы судьба снова свела нас, и нам довелось опять взаимодействовать. Далеко не так тесно, как на полигоне, но всё же некоторые вопросы приходилось решать совместно.
Стеблин в это время уже работал в отделе науки Гостехкомиссии СССР (так эта организация называлась публично, полное же название - Государственная комиссия по противодействию иностранным техническим разведкам). Узнать его, людям, знавшим его по полигону, было почти невозможно. Из могучего атлета он превратился в какого-то жёлтого, ссохшегося, скрюченного старика, который не мог даже повернуть голову и вынужден был поворачиваться всем корпусом. У него была болезнь Бехтерева, страшная неизлечимая болезнь позвоночника, та, которой болел Николай Островский. Я не медик, но мне кажется, что роковую роль в приобретении этой болезни сыграла его прыгучесть. Ведь он и в НИИ-4 всё время играл в волейбол за сборную, и, при его-то прыжках, нагрузка на позвоночник была запредельной.
Но Стеблин и в этой тяжёлой ситуации поражал меня своим удивительным оптимизмом. Даже когда у него полностью отказали почки, и он должен был каждые два-три дня ездить в госпиталь на гемодиализ, он не потерял ни оптимизма, ни чувства юмора. Он даже говорил мне, что ему повезло, ведь далеко не всем в стране доступен аппарат “искусственная почка”. А так, мол, можно жить долго.
К сожалению, долго не получилось. И теперь он остался только у меня в памяти, где запечатлены его внешность, манера двигаться, говорить, смеяться и многое другое, так же, как и образы многих других родных и друзей, которых уже нет на свете. Говоря “запечатлены” чуть не сказал “навеки”. Какое там! Это ведь не компьютер, а всего-навсего живой мозг, век которого тоже недолог. Вот так образ человека остаётся в памяти его близких и друзей и как бы живёт до тех пор, пока они живы. А потом, если только это был не артист или какой-то общественный деятель, запечатлённый на плёнках, не остаётся уже ничего, разве что куча безжизненных фотографий.
Об этом я однажды написал слова на мелодию понравившейся мне песни, где есть такой припев:
|
Тебе одной меня судить, Тебе судьбу мою вершить, Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить. |
К стыду своему, не знал ни автора слов, ни композитора. И только сейчас мне сказали, что это Пахмутова и Добронравов. А я написал такие слова к этой мелодии:
|
Под новый год мы старый провожаем, Что радости и горе нам принёс. Друзей, навек ушедших, вспоминая, Я встану и скажу короткий тост: - Я вижу их, как наяву, Они лишь в нас теперь живут, Так что ж, за нас, за нашу дружбу, За солнце и зеленую траву.
Придет пора и ночью новогодней Друзья мои сойдутся без меня, И кто-то, так же, как и я сегодня, Всем скажет тихо, свой бокал подняв: - Я вижу их как наяву, Они лишь в нас теперь живут, Так что ж, за нас, за нашу дружбу, За солнце и зеленую траву.
Когда-нибудь останется последний. Встречая неизвестный новый год, Он вспомнит наш обычай многолетний И мысленно свой тост произнесет: - Я вижу их как наяву, Они во мне одном живут, Так что ж, за нас, за нашу дружбу, За солнце и зеленую траву. |
Логика моего непоследовательного повествования как-то сама по себе ведёт меня, и уж если я рассказал о Стеблине, то хочется рассказать и о других моих друзьях, по крайней мере самых выдающихся, неординарных.
 Валерий Зинин. Я уже упоминал о том, как он
сконструировал магнитофон ещё в доисторическую, домагнитофонную эпоху. Вообще-то
говоря, он не относится к заданной мне теме. Он не служил в Кап. Яре, да и
вообще в Ракетных войсках - после академии он попал в ПВО. Но он тоже из нашего
спецнабора (и в институте, и в академии мы учились на одном курсе), он был
талантливейший, выдающийся инженер, удивительно честный и порядочный человек, и,
кроме того, его давно уже нет на земле, и не так уж много осталось людей,
которые знали его и могут о нём рассказать. Вот он, на фото.
Валерий Зинин. Я уже упоминал о том, как он
сконструировал магнитофон ещё в доисторическую, домагнитофонную эпоху. Вообще-то
говоря, он не относится к заданной мне теме. Он не служил в Кап. Яре, да и
вообще в Ракетных войсках - после академии он попал в ПВО. Но он тоже из нашего
спецнабора (и в институте, и в академии мы учились на одном курсе), он был
талантливейший, выдающийся инженер, удивительно честный и порядочный человек, и,
кроме того, его давно уже нет на земле, и не так уж много осталось людей,
которые знали его и могут о нём рассказать. Вот он, на фото.
Сочетание большого инженерного таланта и высокой честности и принципиальности оказалось очень опасным, даже в буквальном смысле слова смертельным для Валерия “коктейлем” в тех условиях, в той системе, которая существовала тогда в армии, в промышленности, да и в стране в целом.
После академии он попал в военную приёмку, в КБ, разрабатывающее системы ПВО, и вскоре “влип” в такую историю. Я не знаю подробностей, не знаю конкретно, с каким комплексом ПВО это было связано (Валерка никогда не говорил - режим), но, в целом, история такова.
КБ сдало в эксплуатацию новый комплекс ПВО. Как всегда, в спешке, в первую очередь отрабатывались боевые элементы системы, а проверочно-испытательному оборудованию внимания не хватило. В эксплуатации же быстро выяснилось, что проверочно-испытательная аппаратура существенно тормозит подготовку комплекса к боевой работе. КБ занялось разработкой нового комплекта проверочно-испытательной аппаратуры. Многие параметры её были значительно улучшены, хотя принципиально построение аппаратуры не изменилось, она осталась такой же громоздкой и сложной. Разработчики уже предвкушали “пироги и пышки” - готовилось представление к премии. И тут Зинин предложил принципиально новое решение, позволяющее при тех же возможностях во много раз сократить объём и сложность оборудования и повысить надёжность его работы. Это вызвало шок и резко негативную реакцию у разработчиков. Выходит, один какой-то “выскочка” оказался умнее целого КБ! Да и премия исчезает.
Против Зинина выступили не только разработчики, но и своё же руководство военного представительства. Приёмка ведь тоже оказалась в… как бы это помягче выразиться, ну, скажем, в навозе - они ведь приняли и одобрили эту разработку. Впрочем, тут же был найден выход. Идея была признана неверной, так, мол, ничего не получится. Классическое: “Этого не может быть, потому что не может быть никогда”. А если ты такой умный - то сам и делай.
Очевидно, никто не мог представить, что кто-то способен в одиночку сделать оборудование, над которым обычно очень долго работает целое немаленькое подразделение КБ. Но они недооценили инженерные способности и настойчивость Зинина. Он действительно начал сам делать опытный экземпляр. Сидел в КБ вечерами и ночами, провёл там свой отпуск, но оборудование сделал, несмотря на многочисленные “палки в колёса”, особенно усилившиеся, когда окружающие увидели, что у него всё получается. Ему пришлось пережить нелёгкие времена. Каких только препятствий ему не создавали, как только ни пытались раздавить этого, откуда-то свалившегося им на голову опасного человека. Вплоть до страшных в то время обвинений в нарушении режима секретности с имитацией соответствующих обстоятельств. Словом, эта история лишний раз подтвердила, что нашумевший роман Дудинцева “Не хлебом единым” не пасквиль и не случайная ситуация, а абсолютная закономерность для существующей системы.
Но Валерий сумел выстоять и довести своё дело до конца. Больше того, ему удалось представить заказывающему управлению (4 ГУМО) своё оборудование, как альтернативу тому, что сделало КБ. Заказывающее управление оценило по достоинству работу Зинина, и в серию пошёл его вариант, а не вариант КБ.
Естественно, что отношения в КБ были необратимо испорчены, работать там и дальше Валерию было невозможно. Учитывая это, а также оценив способности Зинина, руководство 4 ГУМО перевело его в свой центральный аппарат. Там он быстро завоевал высокий авторитет, вскоре стал начальником отдела, вероятно первым из нас радистов-спецнаборовцев занял такую высокую должность и так же первым получил звание полковника. Казалось бы, безоблачные сияющие горизонты. Но чужеродный той эпохе “коктейль” и здесь сыграл свою роль.
История началась с того, что в технической прессе начали мелькать сообщения о том, что американцы создают так называемую “загоризонтную радиолокационную станцию” (ЗГРЛС), основанную на эффекте Кабанова.
Если чуть отвлечься, я никогда не мог понять, почему этот эффект был зарегистрирован как открытие. Что тут было открывать? Для тех, кто далёк от радиотехники, поясню. Короткие радиоволны распространяются на большие расстояния за счёт того, что излучённые радиосигналы отражаются от ионосферы и возвращаются к земле далеко за горизонтом. Так вот Кабанов открыл, что какая-то часть отражённого землёй сигнала возвращается обратно в точку излучения. Но, по-моему, это всегда было совершенно очевидно, и, если бы задолго до этого открытия спросили любого здравомыслящего радиоинженера, вернётся ли какая-то часть излучённой энергии в точку излучения, он бы ответил утвердительно. Ведь радиолуч - не луч лазера, а земля - не идеальное зеркало. Совершенно ясно, что отражённые землёй радиоволны распространяются во все стороны, в том числе и в ту сторону, откуда пришли. И, точно так же отразившись от ионосферы, попадут в точку излучения.
Простите за возможно неуместное техническое отвлечение.
Так вот, когда стало известно, что в США на этом принципе создаётся радиолокатор сверхдальнего действия (что, похоже, было умышленной дезинформацией), такие же работы были организованы у нас. Заказчиком этих работ, естественно, выступало заказывающее управление ПВО, т.е. 4ГУМО. Работы чрезвычайно дорогостоящие и объёмные. Был разработан проект ЗГРЛС под названием “Дуга”, которая в конце концов и была построена, да ещё в трёх экземплярах - опытный образец и два “боевых”. Как было принято в то время, по завершении этого грандиозного технического проекта ожидался дождь наград. Лауреаты, герои, ордена, премии.
Зинин с самого начала категорически выступал против этого проекта. Как незаурядный инженер, он понимал, что система эта работать не будет. Данные её будут крайне недостоверны и ненадёжны, в то же время она создаст такой уровень помех как нашим, так и зарубежным средствам, что её просто нельзя будет включать. Менее принципиальный человек, чем Валерий, мог бы держать это мнение при себе, и, напротив, подставить грудь под дождь наград. В конце концов ведь не он бы нёс ответственность за провал системы. Да и никому бы не пришлось отвечать, награды бы назад не отобрали. Такие вещи легко сходили с рук. Дескать, что поделаешь - новое, неизведанное. Так, кстати и получилось с этой “Дугой”. Когда оказалось, что “Дуга” никуда не годится (“ни в дугу” - как шутили тогда), всё преспокойно спустили на тормозах. За напрасно выброшенные гигантские государственные деньги ответственности никто не понёс.
Но Валерий молчать не мог. Так уж он был устроен. Получилось, что он активно выступает против собственного высшего руководства, мешая ему получить заветные награды. И с ним жестоко расправились. Объявили его чуть ли не сумасшедшим и уволили из Вооружённых Сил с неполной выслугой и на мизерную пенсию.
Шкурная заинтересованность руководства 4 ГУМО и ошибочность решения о разработке “Дуги” были ему настолько очевидны, что он долго не мог успокоиться. У него сохранялась наивная вера, что надо только достучаться до какого-то высокого руководства, и кому-то будет поручено объективно разобраться в ситуации. Но государственная система работала чётко. Жалобы неизменно поступали к тому, на кого жаловались, с резолюцией: “Доложить”. Он и докладывал, легко догадаться в какой трактовке. Об этом, кстати, злорадно предупреждал Зинина зам. Начальника 4 ГУМО: “Сколько бы ты ни жаловался, все жалобы ко мне же и придут”.
Я не был таким наивным как Валерий и понимал, что стену сложившейся в государстве системы лбом не прошибёшь, но всё же как мог, помогал Валерию. Я служил уже в Генштабе и поспособствовал тому, чтобы жалоба Зинина попала к министру обороны. Но результат был, естественно, прежним. И эта жалоба тоже пришла в 4 ГУМО. А там уже был отработан ответ: “Да это же сумасшедший! Он всех завалил жалобами!” Короче говоря, года два Валерий обращался во все возможные инстанции, лоб разбил в кровь, но на стене не появилось ни малейшей вмятинки или выбоинки.
Хуже того. Как я говорил, он получал какую-то совершенно жалкую пенсию, но при этом никак не мог устроиться на работу. Это такой-то классный инженер, да ещё в ту пору, когда слово “безработица” было известно нам только по литературе о жизни “за поганым окияном”. У нас же везде висело: ”требуются…требуются…” И уж, конечно, радиоинженеру найти работу не представляло труда. Валерий приходил туда, где “требуются…”, с ним беседовали, говорили - берём, приносите документы, а через несколько дней смущённо сообщали, что обстановка изменилась, и они взять его не могут. Видимо, запрашивали сведения о нём по прежнему месту работы, а там говорили, что это сумасшедший и склочник. Так он жил несколько лет, фактически на иждивении жены. Можно понять, как он всё это переживал.
Много лет спустя, когда многие вещи, прежде закрытые на семь замков, стали доступны широкой публике, я не раз встречал имя Зинина в печати. И в газете “Правда”, и в мемуарах Генерального конструктора систем ПВО и ПРО Григория Васильевича Кисунько, под названием “Секретная зона. Исповедь генерального конструктора”.
Нарушу свой принцип и приведу несколько цитат из этих мемуаров. Кисунько пишет:
“В октябре 1981 года собственный корреспондент “Известий” по Хабаровскому краю Борис Резник случайно наткнулся на “таёжное чудо” в районе посёлка Большая Картель в виде странных циклопических сооружений стометровой высоты, километровой протяжённости, напичканных радиоэлектронной аппаратурой. Эти сооружения никем не охранялись, кругом - ни души, если не считать пришлых любителей - раскулачивателей радиоэлектронной начинки бесхозных объектов. Если бы не эта случайная находка дотошного корреспондента и последовавшие затем публикации в газете - никто из непосвящённых не узнал бы о величайшей афере в советской оборонке…”
“…И всё это делается для того, чтобы не выпустить из завесы секретности главные, охраняемые от народа, чудовищно криминальные тайны и большекартельской (разворованной и сгоревшей) ЗГРЛС, и такой же чернобыльской - тоже разграбленной и прекратившей своё существование, а также экспериментальной в районе Николаева.
Первая из этих тайн состоит в том, что в основу построения ЗГРЛС были заложены подброшенные “из-за бугра” тупиковые идеи, и поэтому создаваемые объекты были изначально мертворождёнными…
Вторая тайна объектов, скрывающихся под шифром “Дуга”, состоит в том, что решения об их создании принимались вопреки научно обоснованным предостережениям компетентных специалистов, а сами эти специалисты подвергались жёстким санкциям. Например, очень чётко, по-военному был изгнан в запас из управления военного заказчика ПВО полковник-инженер Зинин Валерий Иванович”.
Я думаю, что авторитетное мнение одного из выдающихся конструкторов оборонной промышленности убедительно доказывает, что я ничего не преувеличил.
В конце концов Зинину удалось устроиться на работу, не совсем, правда, по специальности, на какое-то предприятие, которое производило электрорадиоэлементы. Он с удовольствием осваивал новую для себя работу, но через некоторое время и здесь у него возник конфликт.
Читатель может подумать - да это действительно какой-то склочник. Но, честное слово, это не так. Всё тот же гремучий “коктейль” - творческий подход и принципиальность, настойчивость в реализации наилучшего решения. Наилучшего для дела, но зачастую далеко не наилучшего, а совсем наоборот, для каких-то людей.
На этот раз ситуация сложилась такая. Был такой изобретатель по фамилии Комаров (если не ошибаюсь). Некоторое время тому назад он изобрёл роторный конвейер, который по сравнению с традиционными ленточными конвейерами обладал многими преимуществами, в частности, занимал меньше места и позволял автоматизировать передачу обрабатываемой детали со станка на станок. Как всегда, “пробить” эту идею ему было не просто. Об этом неоднократно писала пресса. Но, в итоге, всё же эти конвейеры начали внедряться, и один из видов производства, где они оказались особенно удобны - это как раз производство электрорадиоэлементов.
Поработав немного на предприятии и присмотревшись к технологии, Зинин увидел, что у роторных конвейеров, несмотря на их явные преимущества, есть и определённые недостатки. Постоянное вращение на роторе тяжёлых станков вызывает излишний расход электроэнергии. Размещение станков на подвижной платформе усложняет подачу к ним смазочно-охлаждающих жидкостей, электричества и т.д. Я далеко не специалист в этом, заранее прошу прощения если что-нибудь перевру. Валерий придумал конвейер, который, сохраняя все преимущества роторного конвейера, избавляет от его недостатков. Насколько я знаю, суть его в том, что станки стоят неподвижно на круглой платформе, а вокруг неё вращается только относительно лёгкое кольцо, которое осуществляет передачу обрабатываемой детали со станка на станок. В отличие от роторного он назвал свой конвейер статорным.
И тут уже Комаров, ставший к тому времени чуть ли не академиком, стал яростным противником нового изобретения. Ещё бы! Ведь это посягательство на тяжко выстраданное им детище! Опять “Этого не может быть, потому что не может быть никогда”, и опять настырный Зинин вручную в одиночку изготавливает рабочий макет, на этот раз, конечно, не в натуральную величину, а уменьшенный. Снова борьба.
Такая жизнь в постоянном высоком нервном напряжении, такие стрессы (как сейчас это принято называть), очевидно превышали возможности человеческого организма, и он не выдержал. У Валерия случился инсульт, и он умер.
Я иногда думаю - ведь не один такой Зинин жил в нашей стране. Сколько было талантливейших, преданных делу ребят! Только в микроскопическом, в масштабах страны, кругу моих знакомых и то было несколько человек. А во всей стране? Если бы они оказались в условиях, позволяющих и даже стимулирующих реализацию их талантов!
Начал я рассказывать о своих друзьях, и теперь мне трудно остановиться. Это люди настолько интересные, что о каждом из них можно написать целую книгу (впрочем, о любом человеке, наверное, можно написать книгу, вот только содержание у этих книг будет разное). Чтобы уж слишком не затягивать моё повествование, расскажу ещё только об одном интереснейшем человеке.
 Александр Мишин. В отличие от тех, о ком я только
что рассказал, он, слава богу, жив и увлечённо занимается наукой, причём наукой
несколько необычной, о чём речь ещё впереди.
Александр Мишин. В отличие от тех, о ком я только
что рассказал, он, слава богу, жив и увлечённо занимается наукой, причём наукой
несколько необычной, о чём речь ещё впереди.
Мы учились с ним на одном курсе в академии, он был во втором отделении, которое полностью состояло из бывших студентов ЛИАП (Ленинградского института авиационного приборостроения). Как рассказывали его сокурсники, в институте Мишин страстно увлекался футболом. Футбольное поле было прямо под окнами лекционных аудиторий, и, сидя на лекциях, они наблюдали в окно, как Мишин гоняет мяч. Экзамены, тем не менее, он сдавал неплохо.
После академии он тоже попал в Кап. Яр, но там оказался в ещё более трудных условиях, чем большинство из нас, так как попал на так называемую “точку”. “Точками” в Кап. Яре именовались вынесенные далеко в степь (иногда за сотни километров) отдельные позиции систем радиоуправления или измерительного комплекса. Обычно это совершенно необустроенное место, несколько офицеров и несколько десятков солдат. Жизнь в палатках, куда свободно заползают и змеи, которых в степи множество, и ещё более многочисленные крупные ядовитые пауки (фаланги), и всякие прочие совершенно уж неисчислимые твари. Пойти - некуда, делать - нечего, в основном - ожидание боевых работ, которые всё же бывают далеко не ежедневно. Легко догадаться, что в этих условиях скоротать время и “украсить” быт помогает по старой русской традиции водка. Не избежала чаша сия (и в переносном, и в буквальном смысле) и Мишина. И, кто знает, может быть и спился бы этот талантливый человек, но два события спасли его от такой возможности.
Во-первых, как я уже говорил, система РУД была закрыта, и Мишин оказался на “большой земле”, т.е. в Кап. Яре, в нашей лаборатории.
А, во-вторых, он женился. Женитьба его была очень интересной. Потом все приставали к нему с расспросами. Однажды он даже сказал:
- Ребята, ну вы соберитесь все вместе, и я всё расскажу. А то всё время рассказываю одно и то же то одному, то другому.
А дело было так. Мишин, большой любитель охоты, поехал в отпуск к себе на родину, на Валдай, как раз к открытию охотничьего сезона. Вдруг оттуда присылает телеграмму: “Сезон не открылся, я женился”. Когда Мишин вернулся, он рассказал, что во время отпуска познакомился с девчонкой по имени Света, которая приехала на Валдай на практику из Черновиц. У неё оставалось три дня до отъезда домой, поэтому всё прошло в ускоренном варианте. На следующий день он пригласил её к себе, а на третий день они расписались. Как рассказывал Мишин, в ЗАГСе его спросили:
- Как фамилия невесты?
Он в свою очередь спросил у Светы:
- Скажите пожалуйста, как ваша фамилия?
После того как они вышли из ЗАГСА он предложил ей:
- Может быть мы с вами на “ты” перейдём, поскольку мы теперь муж и жена?
Такая вот забавная история. Что не помешало им счастливо жить вместе вот уже не один десяток лет. В то время как другой мой товарищ, из нашего спецнабора, мой однокурсник и по МАИ, и по академии, был знаком со своей будущей женой целых восемь лет, женился в один день со мной и через год развёлся. Вот и разберись, сколько же надо времени, чтобы не ошибиться в таком важном деле!
Одна из граней таланта Мишина - дар художника. Я не специалист, но мне кажется, что его рисунки - на хорошем профессиональном уровне, и он вполне мог бы стать прекрасным художником. Это проявлялось даже в прикладных делах. Однажды он сделал для сына модель танка Т-34. Танк двигался и стрелял, причём всерьёз: заряженный спичечными головками и трёхмиллиметровым болтиком он пробивал половину толстой книги. А выглядел так, что его вполне можно было экспонировать на выставке.
Но особенно выделялся Мишин своим инженерным талантом. Причём талантом не совсем обычным, а, если можно так выразиться, с научным уклоном. Попытаюсь пояснить, что я имею в виду.
С одной стороны, он всё умел сделать своими руками и быстро разобраться в незнакомых схемах и конструкциях. Приведу два примера. Я ещё с институтской поры увлёкся самодельными телевизорами. Как я уже говорил, в Кап. Яре я собрал телевизор и смотрел Сталинградский телецентр. Провозился я с ним довольно долго - несколько месяцев. Мишин пришёл ко мне, увидел, ему понравилось. Буквально через несколько дней он пригласил меня к себе и показал своё изделие. Он сделал приставку к сделанному им раньше осциллографу, и на экране осциллографа была маленькая, немногим больше почтовой марки, но вполне приличная телевизионная картинка. Другой пример. Я уже упоминал, что при моделировании полёта ракеты мы использовали генератор сигналов системы БРК, который “умел” при получении от модели информации об отклонении ракеты от плоскости стрельбы имитировать соответствующий управляющий сигнал БРК. Задача создания такого устройства при уровне техники того времени была довольно сложной. В качестве основы его мы использовали добытое у промышленников шасси устройства с ферритовым модулятором - суперновинки в то время. Шасси было изрядно “раскурочено”, сняты какие-то детали, не было ламп (а ламповых панелек было штук 25), и, самое скверное, что не было схемы устройства и, следовательно, было неизвестно, какие лампы тут стояли и что снято. Мне восстановление этого устройства казалось безнадёжным делом, но Мишин смело взялся за эту работу. Я конечно помогал, мы обсуждали, иногда спорили, но в том, что мы сумели создать такой прибор, который прекрасно работал и позволил нам вести моделирование полёта ракеты с системой БРК в условиях различных возмущающих факторов, безусловно главная заслуга Мишина.
А когда я говорю о научном уклоне, я имею в виду вот что. Я уже говорил, что в нашей лаборатории было много радиолюбителей, и Мишин был одним из них. Но он не просто копировал готовые схемы, как большинство радиолюбителей, а обычно вносил какие-то выдуманные им самим новинки, нередко на уровне изобретения. Я уже писал, что даже такой серьёзный научный журнал, как “Радиотехника”, несколько раз публиковал его статьи.
Но это далеко не всё.
На полигоне примерно в 1961 или 1962 году была развёрнута широкая компания по подготовке собственных научных кадров. Необходимые основы для этого на полигоне безусловно были. Было немало высококвалифицированных специалистов, был богатейший экспериментальный материал, анализ которого мог служить материалом множества диссертаций. Приказом начальника полигона было предусмотрено создание необходимых условий для сдачи экзаменов кандидатского минимума и защиты диссертаций. И, в итоге, действительно около десятка офицеров защитили диссертации и стали кандидатами технических наук.
Однако всякая компания, даже направленная на самые благие цели, поднимает обычно много “пены”. Так было и в этом случае. В соискатели записалось много офицеров, некоторые из которых недостаточно объективно оценили свои возможности, а некоторые вообще и не намеревались всерьёз заниматься этим, а записались из корыстных соображений. Ведь соискателям обязаны были предоставлять отпуск всегда летом, у них был ряд льгот, обеспечивающих дополнительное свободное время. Они годами числились в соискателях, по существу ничего для этого не делая. Некоторые из них лишь сдали по одному - два кандидатских экзамена. Но и те офицеры, которые серьёзно отнеслись к этой возможности, и в конце концов стали кандидатами наук, затратили на это несколько лет.
На этом фоне удивительно выделялся Мишин. Он записался в соискатели много позже других - через год или два после того как началась эта компания. Но сдал все экзамены, написал и защитил диссертацию чуть ли не за один год, раньше всех других на полигоне. Когда он готовился к экзаменам и работал над диссертацией, он говорил мне:
- Оказывается, как интересно учиться! Я и не знал раньше!
Блестяще проявились научные способности Мишина, когда он работал с системой измерения вектора скорости, разработанной Германом Алексеевичем Барановским. Это было уже после моего отъезда с полигона, поэтому я знаю эту историю со слов других и, возможно, расскажу что-то неточно. Суть истории в том, что система давала погрешности значительно выше расчётных, и никто - ни разработчики, ни офицеры-испытатели - не мог понять в чём причина этого. Однако Мишин сумел сделать то, что не удавалось никому. Он нашёл и причину, и закономерности возникновения погрешностей. Я не знаю существа вопроса, но, насколько мне известно, это было связано с геофизикой земли. Поражённый Барановский предложил Мишину писать на эту тему докторскую диссертацию, гарантируя её успешную защиту. Мишин написал автореферат докторской, разослал, получил исключительно положительные отзывы и…на этом успокоился. Писать диссертацию и защищать её не стал.
Когда я спрашивал его - почему? Он отвечал:
- Да это уже пройденный этап. Мне это уже не интересно. Что я буду зря время тратить.
Возможно, что только люди, жившие в то время и хорошо знающие вес и значение звания доктора наук, могут в полной мере оценить это необычное решение.
Сейчас Мишин живёт в Санкт-Петербурге. Долгое время он работал в академии имени Можайского, сейчас на пенсии, но по-прежнему всё своё время уделяет науке. Но наука эта - не радиотехника, как можно было бы предположить, а - не знаю даже как правильно это назвать - может быть физика, геофизика или космофизика (возможно исследования системы Барановского направили его в эту сторону). Причём у него совершенно нетрадиционный взгляд на основы физики. Он, например, утверждает (и доказывает экспериментально!), что эфир и эфирные ветры существуют. О направлениях его исследований и посягательстве на самые основы физики может дать представление название изданной им работы, которую он подарил мне несколько лет назад: “О новых свойствах физического вакуума, гравитационного поля и массы”. Недавно он прислал мне ещё несколько своих статей, где упоминаются его работы. Вот неполный список:
1. Mishin A.M. Aether as Unified Field. - «New Energy Technologies». - SPb:Faraday Lab Ltd, 2003, №3, p.52-55.
2. Mishin A.M. The Main Principle of Etherodynamics. - «New Energy Technologies». - SPb:Faraday Lab Ltd, 2001, №2, p.32-36.
3. Mishin A.M. The Physical System of Artificial Biofield. - «New Energy Technologies». - SPb:Faraday Lab Ltd, 2001, №1, p.45-50.
4. Мишин А.М. Результаты эксперимента по регистрации эфирного ветра. В сб. Новые идеи в естествознании. Серия «Проблемы исследования Вселенной», вып. 18. - СПб: РАН, 1995, с. 24-33.
5. Мишин А.М. Антигравитация и новые энергетические процессы. В сб. Фундаментальные проблемы естествознания и техники. Серия «Проблемы исследования Вселенной», вып. 23. - СПб: Изд. СПбГУ, 2001, с. 258-269.
Я не могу оценить ни качество проводимых им экспериментов, ни полученные результаты и выводы. Знаю только, что официальная, общепринятая наука, такие вещи не признаёт. Однако у Мишина немало единомышленников, с которыми он контактирует, и которые работают в тех же направлениях. Причём это не дилетанты, а люди с учёными званиями вплоть до академиков.
Но, наверное, мне пора вернуться в лабораторию.
Я начал рассказывать о той дружеской обстановке, которая сложилась у нас в лаборатории при новом начальнике, в отличие от официозной обстановки, которая была при Юртайкине.
Процветали у нас и всякие шутки и “розыгрыши”. Однажды, например, ребята закрепили под стулом серебряно-цинковый аккумулятор и установили на него спираль из монтажного провода в хлорвиниловой изоляции. Под сиденьем стула сделали нажимные контакты. Если сесть на стул, контакты замкнут спиралью аккумулятор, провод накалится, хлорвинил задымит. Когда Стеблин куда-то на минутку вышел, ему подменили стул. Он вернулся, сел и через несколько секунд был окутан клубами дыма. Эдик в панике вскочил и стал ощупывать брюки сзади, решив, что они почему-то загорелись.
А мы с Мишиным развернули борьбу с курением.
Надо сказать, что Мишин раньше сам был заядлым курильщиком. Как он сам говорил, курить он научился раньше, чем ходить. А объяснял это так. Когда ему было около года, мать, уходя на работу, оставляла его со старшим братом. А тот любил играть в футбол. Вот он брал Сашу с собой, усаживал его на краю футбольного поля и, чтобы занять его, раскуривал сигарету и совал ему в рот. Оба были довольны. Старший брат играл, а младший сидел и курил.
Однако, Мишин сумел преодолеть эту вредную привычку и, как многие недавние курильщики, не терпел сигаретный дым.
Мы решили распропагандировать нашего общего друга, Вадима Малькова, нашего однокурсника по академии (а для Мишина - и по институту), злостного курильщика. Мы начали ежедневно выпускать по листовке и вручать её Вадиму. Каждая листовка имела номер и эмблему - череп, а под ним две скрещённые сигареты. В верхней части листовки в качестве эпиграфа помещалась броская цитата из какой-нибудь брошюры о вреде курения. В листовке был устрашающий рисунок и соответствующие стихи. Рисовал, конечно, Мишин, стихи писал я.
Вот несколько из этих листовок:
 |
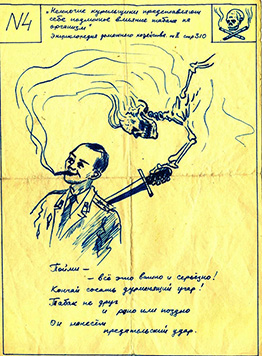 |
 |
Эти листовки сохранились у главного героя нашего «литературно-художественного творчества», Вадима Малькова. Он сам привёз их мне из Кап. Яра, когда приезжал на встречу в Академии Дзержинского (теперь – Петра Великого), в апреле 2003 года, посвящённую пятидесятилетию спецнабора. Он прочёл один из экземпляров этих моих воспоминаний (я раздал десяток или больше экземпляров друзьям спецнаборовцам) и отыскал в своих архивах наши листовки. Я включил их в этот, чуть-чуть дополненный вариант.
Мы выпустили, наверное, больше десятка таких листовок, но Вадим только смеялся и говорил, что как только у него соберётся их побольше, он отправит их в журнал “Здоровье” и получит за них много денег.
Наконец, нам надоело это безнадёжное дело. И, в качестве завершающего акта, мы выпустили последнюю листовку на двойном листе бумаги, где на развороте была нарисована страшная картина и такие стихи:
|
 Мальков с женой |
Мы ошиблись. Мальков, слава богу, жив, а вот Швыряева давно нет. Давно нет и Тамары Мальковой, которую мы прочили во вдовы. Не довелось ей носить это горькое звание.
Вот на этом снимке Вадим с Тамарой ещё молодые и счастливые как раз примерно в то время, когда мы выпустили эту жестокую шутку.
Несколько лет пролетели незаметно. Но эра систем радиоуправления на ракетах средней дальности уже заканчивалась. Ракетная техника развивалась быстро, и появились новые гироприборы с гораздо более высокой точностью. Вместо традиционных со времён Вернера фон Брауна гирогоризонта и гировертиканта были разработаны гиростабилизированные платформы (ГСП), которые обеспечивали удовлетворительную точность попадания ракеты. Поначалу она ещё уступала точности попадания с использованием радиосистем управления, но слишком уж большой шлейф проблем тянулся за этими системами. Это и усложнение и удорожание структуры ракетного комплекса, и проблемы с выбором позиций систем радиоуправления, и снижение боеготовности ракетного комплекса, и потенциальная возможность подавления этих систем помехами противника, и ряд других, более мелких проблем. Поэтому вполне естественно было пойти на некоторое ухудшение точности попадания, но избавиться от тяжкого груза этих проблем.
Новые ракеты, которые стали поступать на полигон: 8К63, 8К65, разработанные в КБ Михаила Кузьмича Янгеля (КБ ”Южное” в Днепропетровске), систем радиоуправления уже не имели. На основе системы радиоуправления дальностью (РУД) была создана измерительная система для измерения вектора скорости в конце активного участка ракеты (она так и называлась - “Вектор”), а от системы БРК попросту отказались. Примерно в 1961 году, точно не помню, поступил приказ о расформировании нашей лаборатории.
В то же время, на межконтинентальных ракетах, испытания которых проводились на полигоне в Тюра-Там, системы радиоуправления сохранялись, так как без них при стрельбе на дальности порядка 10000 километров точность была неудовлетворительной. И я иногда думал - а правильно ли я поступил, отказавшись в своё время от назначения в Тюра-Там.
Кстати, история с этим назначением сама по себе достаточно интересна, и стоит о ней рассказать.
Сначала о том, как это выглядело “снизу”, как воспринималось мной и другими молодыми офицерами.
Опять-таки не помню точно в каком году (у меня как-то плохо с хронологией), но кажется это было ещё до Урала, на полигоне появилась комиссия, куда входили некоторые офицеры-руководители полигона и незнакомые нам приезжие офицеры, видимо из Центрального аппарата. На эту комиссию стали вызывать многих офицеров полигона, в том числе многих из нашего спецнабора. Вызвали и меня.
Когда я вошёл в комнату комиссии, мне сказали, что мне предлагается назначение на новый полигон, который создаётся для испытания ракет большой дальности. Сказали об огромных перспективах, которые откроются там перед теми, кто туда поедет, и спросили, хочу ли я.
Я и до этого уже знал, что в Тюра-Таме создаётся новый полигон. Но надо сказать, что мы только-только как-то обустроились в Кап. Яре, получили комнату, обзавелись какой-то, хоть и самой примитивной, мебелью. Рита сначала не могла устроиться на работу - закрытый гарнизон, здесь многие жёны офицеров сидят без работы, так как работать негде. Особенно острой эта проблема была для жён с профессиями учителей, врачей. Их было много, а таких рабочих мест считанные единицы. Некоторые работали бесплатно, да ещё и рады были, что им хоть бесплатно позволяют работать. Женщинам-инженерам было чуть полегче, но тоже не очень-то. Это потом в штатах испытательных управлений появилось довольно много гражданских должностей, а поначалу их было очень мало. Сначала Рите удалось устроиться на должность техника в отделе телеметрии, где начальником тогда был подполковник Мерзляков, а уж потом, когда появились должности, она стала работать инженером. И вот теперь начинать всё сначала, практически на голом месте. Голом не только в переносном, но и в буквальном смысле. Да и к тому же ещё более жарком, чем Кап. Яр.
Я сказал, что не хочу. Меня спросили - почему? Я объяснил. Мне сказали:
- Ну, это не доводы для офицера.
Я ответил:
- Но вы ведь спрашиваете о моём желании. Я и говорю, что желания у меня нет. А если это приказ, то я готов ехать.
- Хорошо, идите.
По своему опыту я уже знал, что с моим желанием никто не посчитается, и был почти уверен, что скоро придётся снова собирать чемоданы. Многие наши ребята, в том числе из нашей лаборатории (Вениамин Журавлёв, Рудольф Крутов) дали согласие. Некоторые, как и я, отказались, но тоже не питали радужных надежд, что их отказ будет принят во внимание.
И вдруг, примерно через неделю или чуть больше, всех вызывают на комиссию снова. Со мной был такой разговор:
- В прошлый раз Вам предлагалось назначение на новый полигон. Вы отказались. Как Вы, не передумали?
Я сказал, что нет. Тут заговорил находившийся в комнате Мерзляков (не знаю, входил ли он в состав комиссии или просто там присутствовал):
- Напрасно Вы, Юрий Павлович. Всё там быстро появится, и жильё, и работа для Маргариты Викторовны.
Но его тут же перебил незнакомый мне полковник:
- Не надо, товарищ подполковник. Мы ваших не отговариваем, и Вы наших не отговаривайте.
Я вышел очень озадаченный. Что это за “ваши”, “наши”? Зачем надо кого-то отговаривать?
А в результате оказалось, что все, кто дал согласие, уехали, а те, кто отказался, остались. Это, наверное, был единственный случай за всю мою многолетнюю службу в Вооружённых Силах, когда так полностью были учтены желания офицеров при решении о новом назначении.
А теперь о том, что осталось за рамками нашего взгляда “снизу”. Хотя я достоверно не знаю этого, а только из разговоров. Возможно эти разговоры были просто порождены описанными выше странностями и не имеют под собой почвы, но версия очень правдоподобна.
Говорят, что когда решался вопрос о кадрах для нового, важнейшего для страны полигона, то не вызывало сомнений, что костяк должны составить офицеры-испытатели Кап. Яра. Но все понимали, что генерал-полковник Вознюк не отдаст лучших офицеров. А он пользовался большим авторитетом в военно-промышленном комплексе страны и был достаточно сильной личностью. Поэтому руководство Министерства обороны сказало В.И. Вознюку, что он рассматривается на должность начальника нового полигона и предложило ему отобрать нужных специалистов на своём полигоне. Надо сказать, что одной из сильных сторон генерал-полковника Вознюка было то, что он хорошо знал своих специалистов. Несмотря на огромное количество офицеров на полигоне, он знал очень многих из них, вплоть до лейтенантов, особенно тех, кто хорошо зарекомендовал себя на испытательной работе. Вот он и отобрал себе команду для работы на новом полигоне. И вдруг узнал, что он остаётся в Кап. Яре. Отыграть назад было уже невозможно. Единственное, что он сумел сделать в этой ситуации - это добиться, чтобы офицеров не направляли в Тюра-Там вопреки их желаниям.
Когда расформировали нашу лабораторию, офицеров разбросали по другим подразделениям, а меня Самохвалов на некоторое время задержал, чтобы я помог ему рассчитаться с имуществом лаборатории. Это оказалось нелёгким делом. По приказу приборы надо было сдать на склад. Но штатные приборы лаборатории на склад не принимали, потому что практически в каждом комплекте чего-нибудь нехватало. Как правило какой-то мелочи. Какого-нибудь крепления, кронштейна, волновода. Приборы ведь были не один год в работе и, естественно, что что-то сломалось, что-то потерялось. А кладовщику и дела нет. Он берёт опись комплекта и говорит: ”А где вот этот винт?” Намучились изрядно. Что-то изготавливали самостоятельно, что-то задним числом списывали, составляли акты. Сплошная морока. Но хуже всего было с привезенными “промышленниками” приборами. Их склад категорически отказался принимать. Делайте с ними, что хотите. Выбрасывайте. Ну не мог я выбросить, например, уникальный свип-генератор с огромным экраном! Пристраивали эти приборы как могли.
После расформирования лаборатории в моей полигонной биографии было “смутное время”. Некоторое время я занимался радиоизмерительными системами, а конкретнее - бортовыми приборами системы РКТ (радиоконтроля траектории). Была такая система, которую “состряпали” на основе американского локатора времён второй мировой войны, позже скопированного у нас под названием СОН-4. Только система РКТ работала с активным ответчиком, размещавшимся в головной части ракеты, что позволяло увеличить дальность действия.
По-моему, я там особенно-то и не был нужен. Объём работы был невелик. Были свои специалисты, которые давно работали с этой системой. Да и для меня она была чужой, не родной.
В этот период особенно обострилось стремление вырваться отсюда, из Кап. Яра.
Вообще говоря, это стремление было у меня (да, по-моему, и у многих из нас, спецнаборовцев) давно, с самого начала службы здесь. Не буду говорить за других, лучше скажу почему я мечтал об этом. Причин тому было множество. Здесь и неприятие военной службы с её атрибутами, и желание заниматься совсем другой работой - разработкой радиотехнических приборов, которой сейчас занимаются мои бывшие однокурсники по МАИ, и тоска по родному городу, по своим среднерусским краям. Наверное, это гнетущее чувство и называют красивым словом - ностальгия. Каждый раз, когда я возвращался из отпуска, и за окном вагона уплывали (надолго!) деревья, кусты, пригорки, на душе было тяжело. Однажды в таком настроении в вагоне я написал:
|
Лес, березки - такое родное. Как же вас разлучили со мною, Как я смог прожить эти годы Без родной российской природы.
Кто поймет, что большое горе Жить без елей в снежном уборе, Кто поймет, как мне трудно выстоять Без травы и без прелых листьев.
Без их запаха в темной чаще Я тоскую все чаще и чаще. По ночам мне ромашки снятся - Как же с ними навек расстаться!
Ну, а степь, с весны побуревшая, От нещадного солнца сгоревшая- Нужно, видно, быть твоим сыном, Чтоб любить твой запах полынный.
Ты широкая, ты безмерная, Только я однолюб, наверное. В сердце край родной берегу, А тебя полюбить не могу. |
Вероятно, стремление вырваться из Кап. Яра усиливалось ещё и тем, что даже в отдалённом будущем не видно было никакой возможности уехать отсюда. Иногда я даже думал - вот сказали бы мне: прослужишь здесь десять, или даже пятнадцать лет - и вернёшься в Москву. Я бы, наверное, как-то успокоился, притерпелся. Но тогда страшно угнетало то, что казалось, что это - как пожизненное заключение, точнее ссылка - навсегда. Тогда ведь ещё не было появившихся позже постановлений правительства, разрешающих демобилизованным офицерам вернуться туда, откуда их призвали. Кстати, несмотря на эти постановления это было очень непросто, особенно спустя много лет, и некоторые из нас действительно так и остались там пожизненно. Например, до сих пор живёт в Кап. Яре прекрасный парень, один из лучших моих друзей в то время - Вадим Мальков.
Генерал Вознюк выдерживал жёсткую стратегическую линию - никого не отпускать с полигона, ну, разве что по каким-то уж совершенно чрезвычайным причинам. Эту логику можно понять. Долго работавшие на одном месте офицеры приобретали огромный опыт, досконально знали своё дело и создавали высокий авторитет полигону. Но понять - не значит принять. Сколько человеческих судеб было изломано такой политикой!
Ведь на полигоне было немало талантливых людей, у которых было своё призвание, мечты о совсем другой работе, которая и им бы доставляла радость и удовлетворение, и стране могла бы принести гораздо больше пользы. Были какие-то увлечения, которые человек не мог здесь реализовать, может быть и не слишком общественно значимые, но важные для этого человека.
А сколько семей разрушилось в результате этой жёсткой и жестокой политики!
Самый типичный вариант был такой, когда офицер, назначенный на полигон, не привозил сюда свою семью. По разным причинам. Кто-то хотел сохранить квартиру в городе. Кто-то не мог переехать из-за здоровья детей или родителей. Тысячи причин. Тут - как у Толстого: “каждая несчастная семья несчастлива по-своему”, у каждого своё. При этом они, конечно, надеялись, что пройдёт год-два, и офицер вернётся. Они не знали, что засовы тут прочные, как в замке Иф у Дюма. А в результате, через некоторое время у него или у неё кто-то появлялся, и семья распадалась.
Были семейные драмы и из-за того, что жёны, иногда хорошие специалисты, не могли здесь найти для себя подходящую работу и не хотели быть в таком состоянии вечно. Так разрушилась семья одного из наших ребят из спецнабора, Саши Раевского. Его жене, хорошему хирургу, после курсов усовершенствования в Ленинграде предложили остаться там, в клинике, на интересной работе. Саша планировал поступить в адъюнктуру в Ленинград. Однако, Сашу в адъюнктуру не отпустили. Семья оказалась разорванной пополам и через некоторое время распалась.
Адъюнктура и мне казалась хорошим способом вырваться из Кап. Яра. В первый раз я написал рапорт о поступлении в адъюнктуру года через два после начала службы на полигоне. Однако мой рапорт тогда легко отклонили с резолюцией примерно такой: “Отложить до приобретения достаточного опыта работы”. Трудно было спорить. Что такое достаточный опыт? Когда лаборатория радиоуправления прекратила существование, и я оказался как бы не у дел, я снова попытался поступить в адъюнктуру. На этот раз, казалось бы, обстановка была гораздо благоприятнее. Я, как будто, не очень-то нужен здесь, в недостатке опыта меня тоже трудно было упрекнуть. Я и сам подошёл к этому делу в этот раз серьёзнее. Когда был в отпуске в Москве, позвонил Коле Резвецову, моему бывшему сокурснику по институту и по академии, который после окончания академии остался там и работал на кафедре телеметрии. К тому времени он уже был доктором технических наук. Я сказал ему, что хочу поступать в адъюнктуру и договорился, что приеду в академию, чтобы побеседовать. Вообще-то говоря, я собирался поговорить на кафедре радиоуправления, так как это было моей специальностью на полигоне, но Коля сначала привёл меня к начальнику кафедры телеметрии полковнику (может быть генералу - не помню) Мановцеву. Тот довольно долго со мной беседовал, всё расспросил и в итоге сказал, что, если я хочу, он готов на следующий год (при очередном наборе) взять меня в адъюнктуру на свою кафедру. Мне он тоже понравился. Телеметрию я в какой-то степени знал (учили в академии, да и на полигоне немало нахватался, многие мои друзья были телеметристами), и я согласился. Мне в академии сказали, что я должен сдавать на вступительных экзаменах - специальность, историю КПСС и английский.
На полигоне я написал рапорт, и начальник управления не нашёл причины мне отказать. Рапорт пошёл “вверх” - к Вознюку. А я тем временем начал готовиться. Когда подоспел мой следующий отпуск, я чуть ли не полностью посвятил его подготовке к вступительным экзаменам. Характерно, что занимался я почти исключительно историей партии. За специальность я не очень-то боялся, мне казалось, что в этом отношении я неплохо подготовлен, английский у меня ещё с институтских времён был на довольно хорошем уровне, а вот история партии…
Мне всегда очень трудно запоминать то, в чём я не вижу логики. А тут это на каждом шагу. На таком-то съезде большинство решило так-то, но подлый такой-то не подчинился решению съезда и сделал по-своему, такой сякой, поганый, нехороший. А вот на таком-то съезде такое сякое нехорошее большинство решило так-то, но Ленин не подчинился этому поганому решению и сделал по-своему, вот какой он прекрасный. По-моему, человеку с инженерными мозгами понять это невозможно, а потому невозможно и запомнить. Я тупо пытался зазубрить эту книгу (знаменитый «Краткий курс истории ВКП(б), написанный при участии Сталина), но только лишь я перевёртывал страницу, как забывал, что было на предыдущей.
Так я промучился весь отпуск, а в итоге оказалось, что зря. Рапорт мой вернули начальнику нашего первого испытательного управления Калашникову Алексею Сергеевичу. Тогда он, по-моему, был ещё полковником.
Вознюк не любил присваивать генеральские звания своим подчинённым, видимо считал, что так легче управлять, меньше будет людей, которые могут осмелиться что-то возразить. Поэтому, почти до конца моей службы на полигоне была парадоксальная ситуация: начальник полигона - генерал-полковник, а следующее самое старшее звание на полигоне - полковник. Только в начале шестидесятых годов начали появляться генералы, в основном те, кто уже прибывал с этим званием. Из офицеров полигона при мне было присвоено генеральское звание только Калашникову. Но, придерживаясь своей линии, Вознюк от генералов старался избавляться. Быстренько он сплавил в Москву и Калашникова, тем более, что, насколько я знаю, тот иногда ему возражал.
Так вот, Калашникову было сказано, чтобы он пересмотрел своё решение. Калашников вызвал меня и долго убеждал, что не надо никакой адъюнктуры. Можно сдавать кандидатские экзамены и защищать диссертацию прямо на полигоне. Тогда усиленно насаждали эту идею. Мне это, конечно, не подходило, потому что мной двигала не столько тяга к науке, сколько стремление вырваться отсюда в родные края. Но, как чаще всего и бывает в армии, моё мнение осталось со мной, а решение осталось за начальником.
Во время этого разговора он говорил, что понимает, что меня не устраивает та работа, которой я сейчас занимаюсь и сказал, что в самое ближайшее время у меня будет интересная работа.
Так в очередной раз рухнула моя мечта вернуться в родные края.
Одно время был такой период, когда была реальная, хотя и несколько экзотическая, с моей точки зрения, возможность вырваться не только из Кап. Яра, но и из армии. За время моей службы в Вооружённых Силах несколько раз вспыхивали компании по борьбе с пьянством. Одна из наиболее ярких таких “вспышек” была где-то примерно в 1958 году (ещё раз должен извиниться за мои прорехи в хронологии). Тогда было приказано офицеров, попавшихся на пьянке, судить судом офицерской чести и увольнять. Некоторые из наших спецнаборовцев не преминули этим воспользоваться. До сих пор помню сияющие глаза и с трудом сдерживаемую улыбку одного из наших ребят (непростительно забыл фамилию!), когда в последнем слове на суде офицерской чести, рекомендовавшем командованию уволить его из Вооружённых Сил, он обещал, что будет идти с нами в ногу на гражданской работе.
Но для того, чтобы удостоиться такого суда, надо было не просто выпить, но и где-нибудь накуролесить. Я как-то не мог через такое перешагнуть, поэтому для меня и этот путь был закрыт.
Внимательный читатель может сказать - а как же: “Но не променяем никогда город свой мы ни на что на свете”? Как-то не вяжется! Да, действительно. Но, во-первых, песню ведь я писал не от своего имени (не говоря уж о том, что во сне!), а как бы от имени всех офицеров-испытателей ракет. А во-вторых, человек - сложное устройство, и во мне как-то диалектически уживались противоречивые чувства - и страстное желание вернуться на родину, и гордость от того, что я причастен к зарождению и развитию такого великого дела.
Обещанная Калашниковым довольно интересная работа, действительно, вскоре у меня появилась.
4 октября 1957 года с полигона Тюра-Там был запущен первый в мире искусственный спутник земли. Событие это вызвало оглушающий резонанс в мире. Соответственно “золотым дождём” были осыпаны наши коллеги в Тюра-Таме. Герои Советского Союза и Соц. Труда, лауреаты, внеочередные звания, ордена, премии. Через месяц - второй спутник, потом ещё, и ещё, потом корабль-спутник. В апреле 1961 года - первый космонавт.
Кап. Яр, казалось, остался на обочине столбовой дороги в космос. Но спутники в Тюра-Таме запускались тяжёлой межконтинентальной ракетой 8К71, созданной в КБ С.П.Королёва. Эта ракета была способна выводить на орбиту большой полезный вес, вплоть до обитаемых космических кораблей. Однако, каждый пуск такой ракеты обходился очень дорого. В то же время жизнь уже требовала запуска большого количества спутников для решения различных практических задач. Для их создания не требовался большой вес и, чтобы не стрелять из пушки по воробьям, нужно было создать более лёгкий и дешёвый носитель. В качестве такого носителя было решено использовать относительно недорогую и надёжную ракету 8К63, нарастив её дополнительной второй ступенью. Этот вариант был назван 8К63С1 (впоследствии 11К63).
Для испытаний этого нового космического комплекса в нашем первом испытательном управлении было создано отдельное подразделение. По-моему, оно даже не было оформлено штатно, а только местными приказами. Возглавил его Аркадий Прокофьевич Самохвалов, а мне он предложил возглавить группу, которая готовила и испытывала сам спутник. Это уже было гораздо интереснее РКТ.
На технической позиции (площадка № 20) была сделана отдельная выгородка, где готовился собственно спутник - шарик диаметром чуть больше полутора метров.
Первый спутник, который мы начали готовить, назывался МС-1, что, кажется, расшифровывалось: “Московский спутник №1”. Одновременно (или почти одновременно) на полигон привезли и спутник МС-2. А в Днепропетровске, в КБ “Южное”, в это время уже готовились спутники ДС, что означало “Днепропетровский спутник”.
Поверхность спутника была блестящей, почти зеркальной, но часть её на основе каких-то сложных расчётов закрашивалась чёрным цветом, этакими шахматными клетками, для того, чтобы обеспечить нужное соотношение между нагревом спутника солнечными лучами и его теплоотдачей и таким образом поддерживать нужную температуру внутри спутника. Значительную, может быть даже основную часть веса и внутреннего объёма спутника, занимали батареи питания, в качестве которых использовались серебряно-цинковые аккумуляторы.
В моей группе кроме меня было три офицера, в том числе один из нашего спецнабора, мой однокурсник по академии, Гусев Геннадий Данилович, а ещё Костенко Виктор Степанович и Станислав Угольников, отчество которого я непростительно забыл. Костенко дал Станиславу кличку “гОлОва”, потому что когда в затруднительной ситуации кто-нибудь из нас находил хорошее решение, Станислав обычно говорил, сильно налегая на О: “вОт гОлОва! Не знаю откуда он родом, но у него был очень сильно выраженный “окающий” выговор, почти повсеместно вытесненный московским “акающим”, хотя ведь “окающий” гораздо ближе к русской орфографии.
Объём проверок оборудования спутника был довольно большим, к тому же, некоторые циклы испытаний были длительными и непрерывными, и мы часто работали непрерывно сутками, умудряясь иногда часик вздремнуть, не отходя от своего рабочего места. Конечно, мы старались чередоваться, чтобы иметь возможность и дома бывать.
Спутник был круглый, шарик, поэтому и столы с испытательным оборудованием мы расставили вокруг него по кругу, не соблюдая строгую геометрию, так, как нам было удобно для работы. Однажды в нашу выгородку зашёл Леонид Королёв, который тогда был начальником технической позиции на 20-й площадке. Ему не понравилась наша произвольная расстановка столов. Когда мы попытались объяснить, что так удобнее, он в ответ произнёс историческую фразу, которую я потом часто вспоминал по самым разным, совсем другим случаям: “В армии всё должно быть чему-нибудь параллельно и чему-нибудь перпендикулярно”. По-моему, просто блестящий афоризм!
Лёня Королёв. Полный тёзка героя знаменитой песни Булата Окуджавы. Вспомнив о нём, я вспомнил об одной упущенной мной возможности реализовать своё горячее желание, о котором я только что рассказывал, - вырваться из Кап. Яра. Но хочется начать издалека, а возможный читатель пусть наберётся немного терпения.
В Кап. Яре ещё в середине пятидесятых годов проводились эксперименты, по подготовке грядущих полётов в космос. В частности, проводились вертикальные пуски ракет с собачками. При достижении максимальной высоты контейнеры с собачками отстреливались пиропатронами, и собачки на парашютах спускались на землю. Собачки эти, обыкновенные мелкие дворняжки, жили на второй площадке между двойными глухими воротами технической позиции.
Я к этим работам не имел никакого отношения. Но, как и многие другие, любил наблюдать комплексные испытания, которые проводились на технической позиции. В зале устанавливалась вертикально головная часть, в которой в специальных индивидуальных контейнерах находились собачки. Контейнеры были похожи на какие-то овальные подносы с выпуклой прозрачной крышкой. От головной части наклонно вверх в разные стороны зала натягивались стальные тросики. На определённой секунде контейнеры отстреливались и летели по тросикам наклонно вверх, постепенно замедляя своё движение. Красивое зрелище!
Так вот, ещё в ту пору, когда в космос (да и не в космос, даже, а на высоту какой-нибудь сотни километров) летали только собачки, один из наших офицеров вполне серьёзно сказал, что он был бы готов участвовать в этих экспериментах, полететь вместо собачки. А за это он хотел две вещи: перевод в Москву и машину “Волга”. С современных позиций - удивительно скромная компенсация за тот очень высокий риск, которому он бы подвергся. Но тогда это так не казалось, и предложи кто-нибудь всерьёз эти условия - я думаю, что нашлось бы не так уж мало желающих. Впрочем, до такого авантюризма дело не доходило.
12 апреля 1961 года полётом Гагарина открылась эра полётов человека в космос. Первые космонавты были лётчиками. Это понятно - именно лётчики физически, да и психологически были наиболее подготовлены для такой работы. Правда, когда ТАСС торжественно заявлял: “Корабль пилотирует гражданин Советского Союза…”, мне это казалось изрядным преувеличением. “Пилотировать” там, по-моему, не было необходимости, всё делалось автоматически. До Гагарина точно так же “пилотировали” две прославившиеся собачки - Белка и Стрелка. Определённые работы, которые можно отнести к категории “пилотирование” появились у космонавтов позже.
В то же время, сложная техника, которая, естественно, в любой момент может “взбрыкнуть”, требовала наличия на борту инженера, хорошо знающего эту технику и способного в экстремальной ситуации сделать всё возможное для исправления положения. Видимо поэтому было принято решение в отряд космонавтов набрать инженеров. А инженеры-испытатели полигона - вполне подходящий контингент для этой цели. Во-первых, это офицеры (а тогда летали только офицеры, вероятно потому, что рисковать своей жизнью входит в их профессиональные обязанности), во-вторых, они хорошо знают аналогичную технику и привыкли к ракетам и, наконец, в-третьих, многим из них приходилось действовать в “нештатных” ситуациях.
В результате на нашем полигоне был объявлен набор в отряд космонавтов. А я в это время находился в отпуске и ничего не знал об этом. Как же я жалел об этой упущенной возможности, когда вернулся на полигон! Я и сейчас думаю, что у меня были бы очень неплохие шансы попасть в отряд. Я был здоров, ни одна медкомиссия не находила у меня никаких изъянов. У меня прекрасный, многократно проверенный вестибулярный аппарат и никогда не было никаких проблем с укачиванием, морской болезнью или чем-нибудь подобным. Я много занимался спортом, в том числе спортивной гимнастикой в институте, поэтому был неплохо физически подготовлен и хорошо ориентировался в пространстве при любых переворотах. Кроме того, я - радиоэлектронщик. Не последняя по необходимости специальность на борту. А на полигоне их не так уж много.
Я бы, конечно, не раздумывая записался в кандидаты. Это - и возвращение в Москву, и очень интересно, да и всякие другие приятные сопутствующие вещи. Космонавты тогда были окружены большим почётом и всевозможными благами. Но увы! В нужное время не оказался в нужном месте, как сейчас говорят. Впрочем, сейчас я об этом не жалею. Совсем не уверен, что моя жизнь была бы более счастливой, если бы я пошёл по той “параллельной улице” (по Каверину).
А история с этим набором развивалась довольно интересно. На полигоне записалось в кандидаты человек 25-30. Гарнизонная военно-врачебная комиссия их забраковала. Всех! Но тем не менее всех их вызвали в Москву и там их заново обследовала комиссия. Московские медики объяснили действия гарнизонной так. Мол, ваши врачи боялись, что они пропустят что-нибудь, а в Москве это обнаружится, и их упрекнут в низкой квалификации. А так - вот мы какие бдительные. Ну, если и “перебдели” чуть - это не страшно. Значит проявили более высокую требовательность.
Московская комиссия из всех кандидатов отобрала двоих - Лёню Королёва и Виталия Жёлобова.
Я потом Лёню спрашивал:
- Слушай, как же так, когда мы в прошлом году проходили диспансеризацию, всем написали “здоров”, а тебе “нуждается в санаторно-курортном лечении”. А тут всех забраковали, а ты здоров.
А Лёня ответил:
- Да очень просто. Жалуешься - напишут санаторно-курортное, не жалуешься - здоров.
Виталий Жёлобов был из “Бакинцев”. Кроме нашего спецнабора 1953 года (тоже, кстати, состоявшего из двух частей - мартовского и августовского) позже на полигон не раз прибывали группы офицеров-студентов. Только их уже не доучивали в академии, а просто по окончании института призывали как офицеров запаса. Многие из них, может быть даже сильнее, чем мы тосковали по родным местам и по “гражданке”. Однажды даже кто-то из начальства попросил меня, уже “старого полигонного волка” поговорить с такими молодыми офицерами-студентами, успокоить и вдохновить их на нашем примере.
Виталий прибыл с такой группой выпускников Бакинских институтов. Эти ребята выделялись из остальных тем, что, хотя и были русскими, внешне были очень похожи на азербайджанцев. Такие же чернявые, все с усиками. Влияние среды? Он был в нашем управлении. Увлекался спортом, в частности лёгкой атлетикой. Я тоже. И мы нередко были соперниками на соревнованиях. Особенно упорно, помнится, конкурировали в прыжках в длину.
Вот Лёню и Виталия комиссия и отобрала из всех кандидатов. Однако, в это время не работала центрифуга, испытания на которой тоже должны были пройти будущие космонавты. Поэтому Лёне и Виталию сказали, чтобы они через месяц снова приехали в Москву. Виталий поехал, а Лёня неожиданно отказался. Объяснял он нам это тем, что у него начинался отпуск и была путёвка. Мне это казалось странным - судьба решается, а тут какая-то путёвка! Не знаю, может быть он просто передумал.
Потом Виталий долго был в отряде космонавтов (целых тринадцать лет!), но не летал. За это время он успел закончить Военно-политическую академию. Говорили, что там в отряде идёт жесточайшая конкуренция, борьба за право полететь в космос, так как не летавшие космонавты жили примерно так же, как обычные офицеры, а летавшие - о, это была уже совсем другая категория. Всесоюзная слава, награды (герой Советского Союза), поездки по стране и за рубеж, всяческие блага.
Но, наконец, в июле 1976 года он полетел (признаюсь, за этой датой мне пришлось “нырнуть” в Интернет). Причём это был первый действительно длительный полёт. Правда, не год, как потом летали, а всего 49 дней. Но тогда это было большим рывком вперёд. Многое ещё было не отработано, ещё не знали, что надо делать, чтобы легче переносить условия длительной невесомости, так что Виталию пришлось нелегко. Потом, конечно, он получил свою порцию славы и наград, однако вскоре ушёл (говорят, что его “ушли”) из отряда космонавтов. Почему, где он сейчас, чем занимается - не знаю.
Однако, я опять отвлёкся.
Спутник был “начинен” немалым количеством аппаратуры. Аппаратуры мне и остальным офицерам группы незнакомой, непривычной. Изучать её было не по чему, да и некогда, поэтому подготовкой спутника фактически полностью руководили “промышленники”, мы же выполняли чисто технические функции под их руководством. Проводили измерения, контролировали и записывали показания приборов в процессе проверок. Интересно, что от “промышленников” из КБ “Южное” руководил подготовкой спутника тоже Толкачёв. Фамилия эта ведь не так уж часто встречается. А тут забавно выглядели подписи под документами: От КБ “Южное - Толкачёв, от в/ч 15646 - Толкачёв.
В составе аппаратуры спутника был прибор, контролирующий уровень радиации. Когда мы приступили к его проверке, оказалось, что “промышленники” куда-то задевали контрольный изотоп, необходимый для этой проверки. Они пошли на свой склад, поискать не остался ли он в ящике, а я тем временем включил прибор. Двухразрядный декадный счётчик прибора принялся бодро что-то отсчитывать. Декада первого разряда заполнялась буквально за две-три секунды. Я спокойно наблюдал за этой картиной, когда вернулись промышленники, так и не найдя изотопа. Взглянув на прибор, они спросили меня:
- Ты нашёл изотоп? Где он был?
- Нет, ничего я не нашёл, просто включил прибор.
- А что же он считает?
- Откуда я знаю! Фон, наверное. А у вас в Москве разве он не так считал?
- Да ты что! Там единичка первой декады появляется секунд за 10-15. Ну и фон у вас!
Тогда я впервые воочию увидел насколько велико радиоактивное заражение местности на полигоне.
Удивляться этому не приходится. Ведь у нас проводились высотные ядерные взрывы. Ядерный заряд устанавливался на ракете, которая шла вертикально вверх и на высоте около 80 километров (точную цифру не знаю) осуществлялся подрыв.
У меня осталось довольно сильное впечатление от наблюдения за одним таким пуском. Я наблюдал за полётом ракеты со второй площадки, то есть с расстояния около 30 километров от старта. Когда ракета приблизилась к точке подрыва, мы все отвернулись лицом в противоположную сторону. И тем не менее, в момент взрыва в ясный солнечный день я увидел ослепительную вспышку, как будто в глаза мне сверкнула фотовспышка, как бывает при фотографировании. Одновременно шеей я ощутил короткий импульс жара. Как будто кто-то сзади на секунду открыл горяченную печь и снова закрыл её. А ведь расстояние до точки взрыв по прямой было не меньше 90 километров!
Кроме наших ракет ядерные заряды взрывали и на ракетах ПВО, на полигоне ПВО, расположенном совсем рядом, в нашем же гарнизоне.
Ну и, наконец, был период, когда на наших ракетах испытывались головные части с БРВ (боевым радиоактивным веществом). Была когда-то такая, не очень, по-моему, разумная идея с помощью ракет осуществить радиоактивное заражение территории противника. Я слышал, что в процессе этих испытаний немного этого БРВ пролили. А у него какой-то очень длительный период полураспада.
Так что были причины для такого высокого фона. И, похоже, что такая экология (хотя такого слова тогда никто и не слыхивал) тяжело сказывалась на здоровье населения городка. Я, конечно, не знаю медицинской статистики ни по стране в целом, ни по Кап. Яру, но мне кажется, что там было слишком много онкологических болезней, несмотря на то, что население то было в основном молодое. Умерли от рака жёны двух моих товарищей из нашего спецнабора. Не потому ли в городе Волжском построили специализированную онкологическую клинику. Один из наших ребят, из спецнабора, Олег Замараев, которому там делали операцию, рассказывал, что там лежало очень много людей из Кап. Яра.
Но - не будем о печальном. Что было - то было, как сейчас говорит Радио России.
27 октября 1961 года состоялся первый пуск ракеты 8К63С1 (дата опять из Интернета, а не из памяти). Мы торжественно провожали наше детище, наш первый спутник в полёт. Для балансировки центра тяжести снаружи к его оболочке был привинчен металлический брусок - балансир. На этом балансире расписались все участвовавшие в подготовке спутника. Мы уже готовились слушать сообщение ТАСС и гадали, как об этом будет объявлено.
Оказалось, что всё это преждевременно. Пуск был аварийным. Ракета набрала очень небольшую высоту, чуть ли не метров 100 всего, и упала. Когда упавший вместе с ракетой спутник привезли на техничку, оказалось, что некоторые приборы даже работают. В целом же он, конечно, был сильно разбит, разбито большинство приборов и даже многие банки серебряно-цинковых аккумуляторов.
Кстати, с этими аккумуляторами у меня возникла проблема. Серебряно-цинковые аккумуляторы обладали большой ёмкостью, были способны давать большой ток, но у них было небольшое гарантированное время хранения и малое допустимое количество циклов “заряд-разряд”. По этим причинам в период подготовки спутника и ракеты к пуску, который был довольно длительным (понятно - первый пуск нового комплекса), мы сменили два комплекта батарей на борту спутника, с третьим он полетел и упал.
В каждой банке такого аккумулятора было немалое количество серебра. В некоторых, если не ошибаюсь, свыше 800 грамм. В формулярах на них было указано, что после выхода из строя они “реализуются по специальной инструкции Министерства финансов СССР”. Где эта инструкция, что в ней - никто на полигоне не знал. Я складывал все вышедшие из строя аккумуляторы в нашей комнате на техничке. Как-то подсчитал и оказалось, что там свыше 60 килограмм серебра. Но что с этими аккумуляторами делать?
Самохвалов требовал, чтобы я не захламлял помещение и вывез их на свалку. Мне было трудно так вот взять и выкинуть на свалку 60 килограмм серебра, и я пытался найти какие-то концы и сдать их куда-то на утилизацию. Но ничего так и не добился. А так как из разбитых банок немного вытекал электролит и в помещении стоял неприятный запах, терпение Самохвалова истощилось, и мне пришлось всё же отвезти драгоценный металл на свалку.
Потом была работа со вторым спутником. И снова неудача. Пуск 21 декабря 1961 года опять был аварийным. Правда нельзя сказать что результат был таким же. Нет, прогресс был. Если первая ракета рухнула рядом со стартом, то вторая, лишь немного не добрав до первой космической скорости, упала где-то в районе Индонезии. По этому поводу в местном фольклоре появилось такое двустишие:
|
Поработали шикарно, Но попали мы в Сукарно. |
Проблема была в том, что ракета 8К63, и без того относительно тонкая (1,65 м.) и длинная (22 м.), при оснащении её дополнительной второй ступенью, теряла продольную устойчивость. После первой аварии конструкцию усилили, но этого оказалось недостаточно.
Сам спутник был достаточно дорогим. Не знаю, правда ли, но говорили, что он стоит примерно столько же, сколько сама ракета. Видимо поэтому до кого-то наконец дошло, что негоже зря выбрасывать деньги, устанавливая дорогие спутники на неотработанную ракету. Поэтому следующий спутник был пустой. Весовой эквивалент. В нём был установлен только маленький плоский прямоугольный блочок радиомаяка издававший знаменитые в то время “бип-бип”. Вот этот-то спутник и полетел 16 марта 1962 года, открыв эру космических пусков с полигона Капустин Яр, что позволило впоследствии некоторым журналистам называть Капустин Яр космодромом.
Мы с интересом ждали, как же объявят по радио об этом спутнике. До этого все спутники имели как бы собственные имена: “Первый Советский искусственный спутник земли”, “Второй Советский искусственный спутник земли”, “Корабль-спутник”. О нашем спутнике объявили так: спутник “Космос-1”. И с этого момента все спутники, запущенные и от нас, и из Тюра-Тама, и из Плесецка, самого разного назначения и веса объявлялись только так. “Космос-“ и сквозная нумерация по порядку.
В конце 1962 года (или в начале 1963) на полигоне произошло важное событие.
Было создано новое управление - измерительное, и начальником его был назначен Самохвалов. Но что было ещё интереснее - в составе этого управления создавался Вычислительный центр (ВЦ), а в нём отдел ЭВМ (электронных вычислительных машин). Это было тогда новое очень интересное направление в радиоэлектронике.
В стране только-только начали производиться первые ЭВМ. Невероятно примитивные и невероятно громоздкие, если смотреть с современных позиций. Для их размещения требовались целые залы, а по всем основным параметрам - быстродействию, объёму памяти - они были в сотни тысяч раз слабее, чем тот компьютер, на котором я пишу эти записки, и который занимает на моём рабочем столе совсем немного места.
Наряду с универсальными ЭВМ “Урал” и “Урал-2” в отделе ЭВМ планировалась установка двух специализированных ЭВМ для обработки телеметрической информации “Старт”.
Тут надо немного пояснить. Первые телеметрические системы записывали передаваемые по радиоканалу показания различных установленных на ракете датчиков на киноплёнку. В системе СТК на одной плёнке писались показания четырёх датчиков, а поскольку на ракете датчиков было несколько десятков, то и плёнок для обработки после каждого пуска было множество.
Обработка велась вручную. Множество женщин сидело за компараторами - настольными проекционными устройствами с экранами, внешне отдалённо напоминающими дисплей современного компьютера. В компаратор вставлялась телеметрическая плёнка, и увеличенные проекционным экраном линии датчиков размечались, измерялись и в сопоставлении с тарировочными записями позволяли определить изменения различных параметров ракеты в процессе полёта. Понятно, что это был длительный кропотливый труд, требующий постоянного внимания и не исключающий ошибки из-за невнимательности или неточности оператора.
Потом появились новые, более совершенные системы телеметрии, но принципиально ничего не менялось, система записи и обработки оставалась такой же.
Длительность процесса обработки результатов телеизмерений влияла и на сроки проведения испытаний ракет, так как нередко следующий пуск нельзя было проводить, не получив результатов телеизмерений предыдущего. Поэтому естественно, что уже на заре развития электронно-вычислительной техники конструктора систем телеметрии попытались автоматизировать эти процессы.
Так появилась телеметрическая система “Трал-П” с записью сигналов на магнитную ленту и последующей автоматической обработкой на специализированных ЭВМ “Старт”. Вот эти машины и планировалось установить в новом ВЦ, для которого прямо под окнами нашей новой комнаты на улице Мира строилось трёхэтажное здание с кондиционерами и брызгальными бассейнами этих кондиционеров во дворе.
Раз уж я упомянул наше новое жилье, хочется рассказать о наших жилищных проблемах.
Я уже упоминал в начале этих записок, что полигон встретил нас гостеприимно, и всем женатым “спецнаборовцам” сразу дали по комнате (и это несмотря на то, что тогда, как, впрочем, и потом, немало офицеров полигона снимало жильё в селе, в глиняных мазанках с земляным полом). В нашей квартире на первом этаже в доме №2 на улице Ватутина было три комнаты, маленькая кухня с дровяной плитой и ванная с дровяной водогрейной колонкой. Две комнаты были по 12-13 метров и одна побольше - метров 18. В одной из маленьких комнат жили мы, а в другой Поповкины Вася с Дусей. Большую же комнату дали Есенковым Сергею с Ниной, у которых уже тогда было двое детей, близнецы. Тогда это было уникально, насколько я помню, кроме Есенковых ни у кого детей ещё не было, а уж о двоих и говорить нечего. Вскоре, правда, обстановка изменилась, и наши два дома запестрели сушащимися пелёнками и детскими колясками.
У нас родился сын, Серёжа, у Поповкиных дочка, Надя. У Есенковых были Витя и Володя, на годик постарше Серёжи и Нади, на них мы проходили “производственную практику” пока не было своих детей.
Типичная коммуналка, - в маленькой тесной трёхкомнатной квартире 10 человек. Но несмотря на все недостатки такого тесного совместного проживания трёх семей в одной квартире, жили мы очень дружно. Может быть потому, что мы были довольно одинаковые и близкие по духу. Дети - те вообще были чуть ли не общие. Они свободно ходили по всем комнатам и везде могли получить что-нибудь вкусненькое.
Были мы молоды, и нередко, уложив детей спать, всей квартирой ходили на танцы в парк Дома офицеров, который был у нас прямо под окнами на противоположной стороне улицы. А оттуда периодически кто-нибудь бегал под окна нашей квартиры послушать, не проснулся ли и не плачет ли кто-нибудь из детей.
В нашей крохотной кухне не только не помещалось три кухонных стола, но и два-то нормально поставить было нельзя - один из них наполовину загораживал второй. Но это не приводило ни к каким конфликтам между молодыми хозяйками. Даже новейшее чудо бытовой техники - стиральную машину мы купили одну на всех.
В первые годы нас вполне устраивала наша комната. Мы не замечали, что она маленькая - у нас и вещей-то почти не было. Не обращали внимания на широкие щели в полу - подметаешь, а мусора нет, всё ссыпается в щели. Ведь у нас впервые была своя комната!
Правда, досаждали крысы. По ночам они противно скрежетали под полом, а потом начали грызть пол где-то прямо у кровати. Вначале я брал ботинок, стучал по полу, и они переставали грызть. Но через некоторое время начинали снова. Постепенно они наглели. Всё меньше и меньше реагировали на стук и, наконец, вообще стали его игнорировать. Я стучу, а они преспокойно грызут. Тогда я пошёл другим путём. На ночь стал ставить около кровати термос с кипятком. Когда крысы начинали снизу грызть пол, я сверху лил на пол кипяток. Он протекал сквозь наши широкие щели и крысы с визгом разбегались.
А однажды был такой случай. Мы тогда жили уже одни в квартире, соседи выехали. Городок расстраивался, и офицерам постепенно улучшали жилищные условия. Мы оставались в этой квартире последними - и Есенковы, и Поповкины раньше нас получили жильё получше. Так вот, уходя на работу, Рита оставила на кухонной плите вынутый из холодильника кусок мяса, весом в килограмм или больше, чтобы он разморозился пока мы на работе. Когда она вернулась с работы, мяса не было. Это её страшно удивило. А через пару дней мы обнаружили его за плитой, обгрызенное крысами.
Иногда я заставал крыс, нагло разгуливающих по кухне, причём они меня не очень-то и боялись. Однажды, когда я вошёл в кухню, крыса бросилась в дыру у стенки, тут же развернулась там, высунула морду, посмотрела и снова вылезла. Видимо сочла меня своим, не опасным.
Освободившиеся две комнаты получил новый сосед, моряк, Гриша Ломов. Семьи его в Кап. Яре ещё не было, и он решил бороться с крысами всерьёз. Он сходил на санэпидстанцию, и там ему сказали, что крыс надо отравить. Но, мол, крыса - умное и хитрое животное. Когда появляется новый корм, крысы его не едят, а выделяют одну, которая его пробует. Если эта крыса несколько дней ест этот корм и с ней ничего не случается, то и все крысы начинают его есть. Поэтому надо неделю кормить крыс мясным фаршем, а когда они привыкнут и будут его дружно есть, тогда надо придти к ним на станцию, они отравят фарш и все крысы подохнут.
Поскольку сосед был один, приготовлением фарша пришлось заниматься Рите. Неделю мы добросовестно кормили крыс, а когда через неделю сосед пошёл с фаршем в санэпидстанцию, оказалось, что у них сейчас нет отравы и когда будет - неизвестно.
Тут уж моя чаша терпения переполнилась. До этого я не трогал крысиные дыры, полагая, что так крысам легче будет добраться до отравленной приманки, но после истории с фаршем я замазал все эти дыры цементом с битым стеклом. Разгуливание по кухне прекратилось, но под полом по-прежнему кипела жизнь.
Но вскоре (это был, наверное, 1960 год) и мы получили новую комнату в новом доме на улице Мира. Квартира была тоже трёхкомнатная, по сути такая же коммуналка. Соседи у нас потом менялись и нас жило в квартире то две, то три семьи. Но зато наша комната была намного лучше прежней - большая (около 20 метров), второй этаж, балкон.
Дом был построен на самом краю городка, обращённом к Сталинграду. Тогда город ещё носил это название, так же, как и самая длинная улица городка, вытянутая в том направлении, называлась Сталинградской. Прямо перед нашими окнами была степь. И только вдали за большим пустым полем было несколько трёхэтажных (может быть даже четырёхэтажных - точно не помню) домов, в которых жили офицеры полигона ПВО. “Тридцатки”, как у нас его называли, потому что по нумерации гарнизона их основной площадкой была тридцатая. У нас же дома выше двух этажей тогда не строились.
Так как улица Мира была крайней (это собственно говоря была даже не улица - ведь второй стороны у неё не было), то наши дома первыми принимали на себя атаки мириадов насекомых, которыми кишела степь. Балкон у нас был плотно завешен марлей, и вечером, когда зажигался свет, она становилась чёрной от тесно усевшихся на неё степных сверчков, собравшихся на свет. А степь под окнами звенела от их голосов.
 Чтобы покончить с жилищными делами - ещё
несколько слов. Постепенно поле перед нами стало застраиваться: ВЦ (вид на
строящийся ВЦ из нашего окна на фото слева),
ближе к Сталинградской - столовая, на противоположной стороне Сталинградской
начали высаживать деревья для будущего парка, а ещё дальше началось
строительство первых многоэтажных домов нашего полигона. Нечто вроде “хрущоб”.
Квартиры там были маленькие, но рассчитанные на одну семью.
Чтобы покончить с жилищными делами - ещё
несколько слов. Постепенно поле перед нами стало застраиваться: ВЦ (вид на
строящийся ВЦ из нашего окна на фото слева),
ближе к Сталинградской - столовая, на противоположной стороне Сталинградской
начали высаживать деревья для будущего парка, а ещё дальше началось
строительство первых многоэтажных домов нашего полигона. Нечто вроде “хрущоб”.
Квартиры там были маленькие, но рассчитанные на одну семью.
Квартиры там получали вновь прибывшие бесквартирные офицеры, но и многим из “стариков” удавалось улучшить свои квартирные условия. Как - это отдельный вопрос. О путях решения квартирных проблем в ту эпоху, да ещё в воинских частях, да ещё в закрытых гарнизонах, можно написать отдельный роман, даже не один, и по накалу страстей эти романы не уступят драмам Шекспира. Но это явно выходит за рамки моего и так затянувшегося повествования.
В итоге получилось так, что к 1963 году из нас, “спецнаборовцев”, прослуживших на полигоне 9 лет, в коммунальных квартирах осталось 11 семей. В это время многие, может быть большинство, офицеров, даже прибывших гораздо позже нас, уже жили в отдельных квартирах. И мы решили записаться на приём к Вознюку. В шутку мы назвали эту акцию - операция “одиннадцать капитанов”. У нас было задумано, что мы придём к генералу все вместе, так как у нас одинаковые условия, одинаковые заслуги и одинаковые пожелания. Однако, Вознюк отказался принять всех вместе. В армии вообще “групповщина” считается чем-то сродни преступлению. Вот и Вознюк передал через адъютанта, что он примет каждого отдельно, так как у каждого есть свои обстоятельства. Несколько человек из нас сходили на приём. Не помню уж что он им конкретно сказал, но что-то вроде того, что через некоторое время им дадут квартиры. Я не пошёл, так как понимал, что и я получу аналогичный ответ.
Так получилось, что я так и не дождался отдельной квартиры в Кап. Яре, однако, оставшиеся “десять капитанов” через год-два получили. Вознюк придерживался умной и честной политики - он мало обещал, но свои обещания выполнял.
 Здесь хочется сказать несколько слов об этом
очень незаурядном человеке. Генерал-полковник Василий Иванович Вознюк командовал
полигоном в течение всего периода моей службы там. О нём очень много сказано в
мемуарах крупных военных и гражданских руководителей, участвовавших в создании
советской ракетной техники, в различных исследованиях, обзорах и других книгах,
вплоть до энциклопедических справочников. Он безусловно вошёл в историю. И я
вряд ли могу добавить что-то существенно новое к тому, что о нём написано, тем
более, что мне не довелось общаться с ним непосредственно, как некоторым из моих
сослуживцев. Но всё же хочется поделиться своими впечатлениями.
Здесь хочется сказать несколько слов об этом
очень незаурядном человеке. Генерал-полковник Василий Иванович Вознюк командовал
полигоном в течение всего периода моей службы там. О нём очень много сказано в
мемуарах крупных военных и гражданских руководителей, участвовавших в создании
советской ракетной техники, в различных исследованиях, обзорах и других книгах,
вплоть до энциклопедических справочников. Он безусловно вошёл в историю. И я
вряд ли могу добавить что-то существенно новое к тому, что о нём написано, тем
более, что мне не довелось общаться с ним непосредственно, как некоторым из моих
сослуживцев. Но всё же хочется поделиться своими впечатлениями.
На начальном этапе моей службы в Кап. Яре меня поразило вот что. Мы знали, что это сильный, властный командир, хороший хозяин в своём гарнизоне, но человек, не имеющий высшего, тем более инженерного образования. И с юношеским снобизмом я думал, что он просто командир, а в технических вопросах вероятно разбирается слабо. Но вскоре моё мнение полностью изменилось. Мне довелось присутствовать на нескольких совещаниях, где обсуждались технические проблемы, возникшие в процессе ракетных испытаний. Проблемы сложные. Опытные инженеры, руководители предприятий, спорили, не приходя к разумному решению. И нередко именно генерал Вознюк вдруг высказывал очень толковую идею, которая оказывалась лучшим решением проблемы и показывала, насколько глубоко он понимает эту технику. Я невольно вспомнил пушкинские строки:
|
Так всё и будет, как бывало, Таков издревле белый свет: Учёных много - умных мало… |
Человек безусловно властный, не терпящий ни малейшего неповиновения, человек, перед которым трепетали многие подчинённые ему офицеры, он в то же время обладал какой-то как будто врождённой культурой. Я не раз наблюдал, как он всегда первый здоровался с женщинами независимо от их социального положения - с уборщицами, гардеробщицами и другими работницами части (на что, к сожалению, у многих других офицеров, гораздо ниже по званию и должности, культуры нехватало).
Городок, когда начальником гарнизона был генерал-полковник Вознюк, был чистым, ухоженным, зелёным - настоящий оазис в степи. Белые акации, аккуратно подстриженные бордюры газонов из каких-то растений, которые мы называли вениками. Конечно, в основном всё это делалось солдатскими руками и ценой воды, которой остро нехватало, и днём в домах практически не было, так как она уходила на полив. Но зато наш город действительно радовал глаз. И это безусловно было заслугой Вознюка.
И какой разительный контраст я ощутил, когда много лет спустя, уже после смерти Вознюка, приехал в Кап. Яр в командировку. Городок был какой-то грязный, запущенный. Исчезли и веники и большинство акаций. Неприятное впечатление.
Я разыскал могилу Вознюка в городском парке. Он умер в Волгограде, но завещал похоронить его в Кап.Яре. Мне кажется, что его надо было бы похоронить не в этом новом парке, который только закладывался в конце его командования гарнизоном, а в старом парке у Дома офицеров. Ведь именно за этим парком был его дом, и на Дом офицеров выходили окна штаба, где он засиживался до глубокой ночи. Сама же могила произвела на меня ещё более мрачное впечатление. Такая же неухоженная и замусоренная, как и весь городок. Как же так! Могила такого человека, который отдал всё и созданию первых ракет и самого этого города. Нет, при Василии Ивановиче Вознюке такое запустение невозможно себе представить.
Я стоял подавленный у могилы и вдруг аж
вздрогнул. Прямо над моей головой раздалось хриплое: “каррр!” Поднял голову и
увидел, что на ветке дерева низко над могилой сидит большой угрюмый, втянувший
голову в плечи (если у птиц есть плечи) чёрный ворон. Именно чёрный ворон, а не
обычная серая ворона. До этого случая я никогда их не видел живьём, только
читал, что такие бывают.
 Так эта сцена и стоит у меня перед глазами. Осень,
запущенная замусоренная могила, угрюмый ворон.
Так эта сцена и стоит у меня перед глазами. Осень,
запущенная замусоренная могила, угрюмый ворон.
Небольшая вставка из гораздо более позднего времени. Когда я в тот раз был на могиле Вознюка она находилась где-то среди деревьев парка в каком-то, как мне показалось, довольно глухом месте. Но позже, не знаю, когда и как, эта несправедливость была исправлена. Теперь могила находится у края парка, она прекрасно обустроена, установлен хороший памятник, и могила эта стала культовым местом. Вот как она теперь выглядит.
А теперь снова о моей службе. Когда я узнал о создании нового вычислительного центра, мне очень захотелось туда попасть. Новейшая и интереснейшая техника, основы которой излагал нам в своих лекциях ещё в МАИ замечательный преподаватель Гитис. Умница и очень честный и смелый человек. Тогда как многие учёные той поры послушно клеймили кибернетику как “буржуазную лженауку”, он, не употребляя запретных слов (чтобы “не дразнить гусей”), тем не менее дал нам основы построения вычислительной техники, начиная с алгебры логики.
Очень заманчивым было для меня и то, что не надо было бы каждый день ездить на осточертевшем за 9 лет мотовозе за 60 километров, затрачивая ежедневно часа 4 на дорогу. Кроме того, начальник измерительного управления - Аркадий Прокофьевич Самохвалов, а начальник отдела ЭВМ - Алексей Иванович Алексеев. Два прекрасных человека. Иметь таких начальников - лучшего и желать не надо.
Сейчас уже не помню (ловлю себя на том, что слишком уж часто я употребляю эти слова, но - что поделаешь, если это так), то ли я обратился к Самохвалову с просьбой взять меня в ВЦ, то ли он сам предложил мне это, но мне была предложена должность начальника лаборатории машины “Старт”. Я, конечно, с радостью согласился.
Когда начиналось моё оформление, меня неожиданно пригласил к себе полковник Полуянов, назначенный начальником ВЦ. В комнате кроме него был Захаров Юрий Иванович, тоже из нашего спецнабора. Полуянов сказал, что он хотел бы, чтобы начальником лаборатории был Захаров, а мне предложил должность старшего научного сотрудника той же лаборатории. При этом заверил, что в ближайшее время будет создана вторая лаборатория “Старт”, так как машин устанавливается две, и там уж я буду назначен начальником. Спросил меня о согласии на такой вариант. Такая вот пикантная ситуация. Не знаю, почему Полуянов хотел назначить именно Захарова, а не меня, возможно он лучше его знал, а я для него был кот в мешке, но открыто возражать он, видимо, не решился, так как должность мне предложил Самохвалов, его начальник. Вот он и решил отрегулировать проблему “дипломатическим путём”. Я не возражал. Во-первых, потому, что, по-моему, противоестественно навязываться на должность, если твой начальник хочет видеть на ней другого человека. А во-вторых, у меня (издержки моего гражданского прошлого?) за всю мою службу никогда не было стремления делать военную карьеру, то есть стремиться занять всё более высокую должность и командовать всё большим количеством людей. Более высокие должности иногда привлекали меня более высоким окладом, но только не возможностью командовать. И, во всяком случае, я никогда не предпринимал ничего специально, чтобы занять более высокую должность.
Словом, ситуация меня вполне устраивала, я дал согласие, и через некоторое время начался мой последний этап службы в Кап. Яре, этап может быть не такой яркий, но самый спокойный и самый комфортный в бытовом отношении.
Путь до работы не занимал и пяти минут - всего лишь перейти через дорогу. Обед - дома (Рита тоже работала в ВЦ и мы обедали дома вместе). Коллектив в лаборатории подобрался замечательный. Меня, действительно, вскоре назначили начальником второй лаборатории “Старт”, но фактически мы работали как одна лаборатория. В составе наших двух лабораторий было примерно 8 офицеров и почти вдвое больше женщин-инженеров. Мы все как-то очень хорошо сдружились.
Все праздники отмечали вместе, большой компанией с жёнами и мужьями. Такой же компанией часто выезжали на Ахтубу, а то и на Волгу - купаться загорать, ловить рыбу и варить уху на берегу, где она получается необыкновенно вкусной. Благо, было на чём ездить. Олег Замараев купил списанный “джип” - ГАЗ-67 и в него ухитрялись поместиться человек 10. Да ещё у мужа Тамары Боровиковой была шикарная по тем временам машина - “Волга”. Иногда и она привлекалась. Ну, и основной наш транспорт - мопеды, велосипеды. Слева пара фотографий с такого выезда.
 |
 |
Правда, на серьёзную рыбалку - с ночёвкой -
ездили одни мужчины лаборатории. Однажды на такой рыбалке нам попался довольно
большой осётр – 28 килограмм. Причём, специально ловить осетров мы не
собирались. Ловить их запрещено, но некоторые рыбаки ловят и не считают это
браконьерством, потому что ловят не на продажу, и не в большом количестве, как
браконьеры.
 Ловят их на Волге. Для этого используют более длинные лески, более
тяжёлые грузы, другую насадку и забрасывают в специальных местах (на ямах). У
нас же это получилось случайно – мы ловили в Ахтубе, и закидушка была обычная с
мальком, на судака. На фото Олег Замараев с пойманным осетром.
Ловят их на Волге. Для этого используют более длинные лески, более
тяжёлые грузы, другую насадку и забрасывают в специальных местах (на ямах). У
нас же это получилось случайно – мы ловили в Ахтубе, и закидушка была обычная с
мальком, на судака. На фото Олег Замараев с пойманным осетром.
В первое время моей работы в ВЦ мне казалось, что я кого-то обманул и как-то ловко “сачкую”. Настолько было легче, настолько больше у меня стало свободного времени и настолько я меньше уставал по сравнению со своей многолетней работой на площадках.
Впрочем, изучить свою новую технику было непросто. “Старт” был огромной машиной, построенной на радиолампах, как и другие машины того времени, причем ламп было свыше полутора тысяч. Наши две машины занимали площадь 600 квадратных метров (три зала по 200 метров каждый). Для охлаждения стойки машины обдувались холодным воздухом кондиционеров. В составе машины были и чисто электронные стойки, и электромеханические для ввода и вывода данных. Словом, это был изрядный монстр. Сейчас, с нынешних позиций, это выглядит удивительно. Все эти задачи и даже на несколько порядков более сложные, наверняка можно было бы решать устройством, которое не заняло бы и половину обычного стола. Но нельзя перепрыгнуть через время.
На первом этапе работы нашей задачей было развернуть машины, которые уже давно были доставлены на полигон, но хранились на складе из-за задержки со строительством здания ВЦ. Тут мы столкнулись с серьёзной проблемой. Оказалось, что кабели межстоечных соединений слишком коротки и не позволяют соединить стойки, установленные на свои места, а переместить стойки невозможно, так как это потребовало бы значительных переделок в конструкции здания. Ведь для каждой стойки были проделаны отверстия в межэтажном перекрытии, куда подведены громадные воздуховоды кондиционеров.
Причин же недостаточной длины кабелей было две. Первая состояла в том, что завод-изготовитель в Йошкар-Оле делал их под конкретный проект нашего ВЦ. Но при строительстве здания были допущены отклонения в расположении стоек. Небольшие - сантиметров по 20-30. Но для кабелей это существенно. А второй причиной было то, что завод, изготавливая кабели по плану машинных залов, не учёл, что кабельные разъемы стоек находятся не на уровне пола, а на некоторой высоте, на что требуется дополнительная длина кабелей. Это ещё сантиметров по 30-40 с каждой стороны. То есть требовались новые более длинные (в среднем примерно на метр) кабели.
Меня направили в командировку на завод-изготовитель в Йошкар-Олу с задачей добиться, чтобы завод исправил ошибку и за свой счёт изготовил новые кабели.
Я выехал из Кап. Яра в последних числах апреля. У нас уже была жара, отцвели тюльпаны, и я, естественно, поехал в кителе, даже и не подумав о шинели. Когда поезд подходил к Йошкар-Оле, я с удивлением увидел в окне, что в лесу лежит снег. В течение тех нескольких дней, что я находился в Йошкар-Оле, всё время было настолько холодно, что я в своём кителе мог только, ёжась и дрожа, добраться до завода, а потом так же до гостиницы, откуда носа уже не высовывал. Благо, в гостинице был ресторан и питаться можно было, не выходя на улицу.
На заводе я довольно быстро договорился с начальником цеха, мы составили документ, в котором были указаны нужные длины всех кабелей, и дня за два я собрал под этим документом все необходимые подписи (а их потребовалось немало!). Оставалась, как мне казалось, формальность - утвердить этот документ у директора завода. И тут я нарвался на неприятную неожиданность. Директор занял такую дурацкую, показушно-принципиальную позицию: “то, что мы не учли высоту ввода - это наша ошибка, и мы за свой счёт сделаем кабели длиннее на эту величину. А вот то, что у вас стойки смещены относительно проектного положения - это ваша вина, и, если вы хотите, чтобы было учтено и это, оплатите заказ новых кабелей”. При этом он вызвал к себе заводских руководителей, подписавших документ, и устроил им “вздрючку”.
Я не знал, что и делать. Пошёл снова в цех. Там ко мне отнеслись с пониманием. Втихую ругая директора за его непорядочную позицию, начальник участка мне сказал, чтобы я не беспокоился - они сделают кабели нужной длины. Директор ведь перемерять их не будет. На том мы и расстались. И, действительно, через пару недель мы получили кабели, которые были изготовлены с запасом.
А ещё в ту командировку в Йошкар-Оле я впервые увидел впоследствии знаменитого певца Иосифа Кобзона. Вечером, когда я ужинал в ресторане, я увидел, что отдельно накрыт длинный стол, за которым ужинает большая компания, человек двадцать. Когда они (да и окружающие за другими столиками) уже несколько “подогрелись” весёлыми напитками, один из этой компании встал и громко сказал, обращаясь ко всем посетителям ресторана:
- Товарищи! Сегодня у вас в гостях замечательный композитор Андрей Эшпай!
Мой сосед по столику пояснил, что это артисты пришли после концерта, а тот, который сказал про Эшпая, - молодой певец Иосиф Кобзон. Впрочем, тогда я его не запомнил, да и не разглядел как следует.
Монтаж машин в новом здании ВЦ мы делали сами, причём самим пришлось делать все работы, вплоть до установки на места тяжеленных стоек. После завершения монтажа мы начали понемногу включать аппаратуру, отлаживать стойки и обучаться практической работе на них. Некоторые из наших офицеров и гражданских инженеров ещё за год до этого ездили в Йошкар-Олу на обучение, и это нам существенно помогало. Впрочем, окончательный ввод оборудования в строй должна была сделать заводская бригада. Договор на шефмонтаж был уже заключён
Наш военный городок строился и рос. И где-то там, в административных верхах было решено присвоить ему статус города. Но города секретного. Городу присвоили имя Знаменск, однако во всей открытой переписке по-прежнему употреблялось только село Капустин Яр. На картах новый город тоже не появился. Появилась только, как положено, городская администрация и какие-то городские службы. Впрочем, и тут поначалу мало что изменилось. Как и раньше порядок в городе поддерживался силами солдат и распоряжался всем начальник гарнизона, то есть генерал-полковник Вознюк, который, надо отдать ему должное, был очень хорошим хозяином. Благодаря ему наш городок был буквально цветущим оазисом в пустынной раскалённой степи. Слабым немногочисленным городским службам было просто не под силу поддерживать чистоту в таком большом городке, ухаживать за зелёными насаждениями, нуждающимися в ежедневном поливе, высаживать всё новые и новые деревья и другую растительность. Но всё же некоторые, хотя и небольшие пока изменения, в жизни городка появлялись. Город даже обзавёлся собственным гербом.

 Первоначально этот герб выглядел так, как
показано здесь слева. Много позже, в 2001 году, его несколько видоизменили, и
официально зарегистрировали в Государственном Геральдическом регистре под № 692. Теперь он выглядит так, как на рисунке справа. Легко заметить, что принципиально
они не отличаются. Вполне естественно, что основными символами нашего города
стали горячее солнце, тюльпаны и его военная, ракетная принадлежность. Только на
первом гербе ракеты изображены буквально, а на втором символично в виде крылатых
мечей. Лучи же солнца под ракетами как бы одновременно струя двигателя ракеты. В
обоих гербах вверху корона. Я не силён в геральдике, но кажется корона
символизирует власть. Правда, по-моему, корона не должна изображаться
произвольно, она должна соответствовать статусу города. Выполнено ли это здесь –
я не знаю, но видно, что на старом и новом гербе короны разные. Возможно, что
теперь вообще нет таких требований.
Первоначально этот герб выглядел так, как
показано здесь слева. Много позже, в 2001 году, его несколько видоизменили, и
официально зарегистрировали в Государственном Геральдическом регистре под № 692. Теперь он выглядит так, как на рисунке справа. Легко заметить, что принципиально
они не отличаются. Вполне естественно, что основными символами нашего города
стали горячее солнце, тюльпаны и его военная, ракетная принадлежность. Только на
первом гербе ракеты изображены буквально, а на втором символично в виде крылатых
мечей. Лучи же солнца под ракетами как бы одновременно струя двигателя ракеты. В
обоих гербах вверху корона. Я не силён в геральдике, но кажется корона
символизирует власть. Правда, по-моему, корона не должна изображаться
произвольно, она должна соответствовать статусу города. Выполнено ли это здесь –
я не знаю, но видно, что на старом и новом гербе короны разные. Возможно, что
теперь вообще нет таких требований.
Но, конечно, дело не ограничилось введением герба, который, кстати, никто из населения и не видел. Первым заметным всем явлением при появившейся городской власти стало то, что в нашем городе, как и в других городах страны стали проводиться демонстрации 1-го мая и 7-го ноября. Самая первая демонстрация в городке (уже не в городке - в городе Знаменск!) состоялась 7 ноября 1963 года.

На фотографии - колонна нашего Вычислительного центра на демонстрации.
Наша колонна отличалась от других тем, что если в других колоннах несли только лозунги, портреты, флаги, то у нас впереди торжественно несли эмблему ВЦ (что хорошо видно на фото), созданную Владиком Медведевым, офицером нашей лаборатории «Старт». Он тоже из студентов, призван после окончания института в Казани. Несколько человек из этого призыва попали в ВЦ, в том числе двое в лаборатории «Старт» (кроме Владика Медведева ещё Эрик Кабиров). У Владика были немалые художественные способности, причём способности скорее не художника, а дизайнера. Искажённая звезда на эмблеме по тем временам была смелым новаторством.
Я не знал, что календарь судьбы уже отсчитывает последние месяцы моей жизни в Кап. Яре, жизни нелёгкой, но и прекрасной, навсегда оставшейся в памяти как самый яркий период моей биографии.
Обо всём тут, конечно же, не расскажешь. Было множество бытовых трудностей. Например, несмотря на то, что Кап. Яр снабжался значительно лучше большинства советских городов (не говоря уж о посёлках) у нас были проблемы с самыми элементарными вещами и продуктами, вплоть до белого хлеба (при Хрущёве). Длиннющие очереди, когда что-то вдруг появилось в магазине - обычное дело. Но так жила вся страна, мы ещё получше других. Помню, как однажды наша соседка Нина Есенкова, отстояв два часа в очереди, принесла домой муку и побежала стоять за сахаром. А когда вернулась счастливая с сахаром, её двухгодовалые мальчишки, близнецы, Витя и Володя, белые как мельники веселились в комнате, засыпанной мукой.
Хотя некоторые вещи были действительно в изобилии. Прежде всего это рыба. До поры, когда Волгу перегородили “заборами” ГЭС, рыбы в низовьях Волги было невероятное количество. Даже вода в водопроводе пахла рыбой. Когда для полива полей качали воду из Ахтубы, то вместе с водой на поля лились мириады мальков. Все хозяйки знали, что, покупая свинину на базаре (а где ж её ещё было покупать - в магазинах то мяса не было), её обязательно надо нюхать, потому что многие кормили свиней рыбой, и такая свинина имеет сильный рыбный запах. Неудивительно, что практически всё население городка (во всяком случае, мужская его часть) увлекалось рыбалкой. И развлечение хорошее, и хорошее подспорье к домашнему столу. Тем более, что при таком количестве рыбы не требовалось каких-то ухищрений, изощрённых снастей - любой на самую элементарную закидушку или простейшую удочку или спиннинг мог поймать рыбы больше, чем мог съесть. Так же много было и раков.
Сами мы ловили в основном судаков, но местные жители продавали осетров и икру. Официально осетров ловить не разрешалось, но браконьеров на Волге всегда было достаточно, а тогда с ними не очень-то и боролись. Вначале, когда городок был ещё открытым, осетров и икру носили прямо по домам. И цены были смешными. Пол-литровая банка чёрной икры в период 1954-61 годов стоила 10 рублей, а после денежной реформы 1961 года - 1 рубль. Поскольку масштабы денег меняются в нашей стране с калейдоскопической быстротой, поясню. 10 рублей в 1954 году - это, примерно, стоимость обеда в рядовой столовой. Я уже говорил, что оклад лейтенанта слушателя в академии был 1450 рублей. В Кап. Яре же я начинал с оклада около 3 тысяч. Потом, когда городок стал закрытым, икру покупали через знакомых и местных жителей, работавших в городке.
А в конце лета наступал сезон изобилия помидоров и арбузов. Мне кажется, что таких вкусных помидоров, как росли там, я больше никогда не ел. Видимо для них там очень благоприятные условия - жаркий сухой климат. Цена же на них была чисто символической - слишком их было много. В колхозах вообще регулярно “уходили под снег” огромные поля с великолепными спелыми помидорами. Там всегда что-нибудь было не так. То нет тары, то нет машин, то не принимают. Больно было видеть это погибающее великолепие.
Арбузов тоже было очень много, но особенно ценились Баскунчакские. Я не особенный любитель арбузов, но надо сказать, что Баскунчакский арбуз - это действительно король арбузного племени. Изумительно сладкий, рассыпающийся во рту нежными сочными крупицами. Просто удивительно, как такое чудо вырастает в знойной сухой, выжженной дотла степи.
О проблемах со спиртным вспоминают многие Кап. Ярцы. В городке - сухой закон. Соответственно, в селе приснопамятная астраханская “косорыловка” (такой отвратительной водки мне потом никогда пить не доводилось) выпита на годы вперёд. Планы поставок водки в село ведь не учитывали, что раскупать её будет ещё и целый город, пусть и небольшой. В связи с этим вспоминаются парадоксальные вещи. В магазинах в селе - пусто. Все полки заставлены только шампанским и крабовыми консервами. Особенно интересно было это вспоминать в последние годы советской власти, когда и то и другое стало страшным дефицитом. А тогда, в Кап. Яре, крабов никто не ел, хоть и стоили они копейки, а не как сейчас. Перед каким-то праздником мы отрядили делегацию в село с задачей добыть спиртное. В магазинах его, естественно нет. Ребята сидели в кафе, заказывали еду, выпивку (уж не помню, что там было - вино или водка) и потихоньку под столом переливали её в принесённые с собой бутылки. Потом я нередко со смехом вспоминал это в Москве, где обычным явлением было обратное: люди приходили в кафе или ресторан и потихоньку из-под стола наливали себе принесённое с собой спиртное, так как в кафе и ресторанах на него были бешеные наценки.
Была и такая любопытная история на эту тему. На рынке в селе появилась деревянная “халабуда” с притягательной вывеской: “Сухой Кизлярский виноградный вино”. Внутри халабуды было много бочек, и хозяин, армянин, наливал из них желающим вино по умеренной цене. Большинство посетителей пили его прямо на месте, стоя у прилавка. Приятно было в жару выпить стакан сухого вина, которое этот армянин как-то умудрялся сохранять прохладным. От посетителей - отбоя не было. Ведь рынок был основой нашей жизни, и большинство из нас ходило туда (чаще не ходило, а ездило на велосипедах) почти ежедневно. Однажды в этот кабачок зашёл один из наших офицеров, тоже армянин по национальности. Он спросил хозяина по-армянски: “Вино есть?” Казалось бы, странный вопрос. Штабеля бочек, вокруг мужики с наслаждением потягивают из гранёных стаканов прохладное вино. Но армянин-хозяин внимательно посмотрел на вошедшего и так же по-армянски ответил: “Вина нет”.
Но все бытовые трудности как-то нас не очень трогали. Мы, собственно, и не видели лучшего. Ещё свежа в памяти была война с её настоящим голодом. Да и до войны, и после неё нас не баловали изобилием. Были, вероятно, люди, которые не знали проблем со снабжением - партийные и советские начальники, различные знаменитости, “завмаг, товаровед” (по Райкину), но большинство людей считали дефицит всего и нескончаемые очереди за всем нормальным явлением. К тому же всё скрашивала наша молодость. Никогда потом я не жил в таком тесном общении со множеством прекрасных друзей. Было вполне естественным, гуляя по городку, зайти к кому-то из друзей без каких-нибудь предварительных договорённостей. И встречи эти не сводились к застолью - нам было интересно и весело вместе. Потом, живя в Москве, я часто недоумевал - как это всё исчезло. Почему-то встречи стали очень редкими, немыслимыми без предварительных согласований, телефонных звонков. Что это? Возраст? Или синдром большого города? Не знаю, но без такого дружеского общения наша жизнь в Кап. Яре была бы несоизмеримо хуже.
Осенью 1963 года мы завершали подготовку “Старта” и ждали заводскую бригаду. И тут я получил тяжёлое известие - у моей матери в Москве случился инфаркт.
Надо сказать, что здоровье моего отца было очень плохим. До войны он был военным, строителем. Строил укрепрайоны на Дальнем Востоке (тогда, видимо, готовились к войне с японцами). Условия там были очень нелёгкие, он заболел цингой, а потом и туберкулёзом, и ещё до войны его уволили из армии. Туберкулёз прогрессировал, усугублённый холодом и голодом военных лет, и в 1948 году он был буквально при смерти, лежал в госпитале Бурденко. Его спасло то, что в это время состоялся знаменитый (в то время) визит Молотова в США, откуда наша делегация привезла новейшее лекарство - стрептомицин. Для пробы стрептомицин дали госпиталю, всего на двух человек. В госпитале выбрали двоих, самых тяжёлых, в том числе моего отца. И оба выздоровели (правда, второй оглох, но это мелочи, когда речь идёт о жизни). Но здоровье отца было подорвано, он сам-то нуждался в уходе, где уж ему было ухаживать за лежачей матерью.
Я написал рапорт, что по семейным обстоятельствам прошу либо перевести меня в Москву, либо уволить в запас. Приложил медицинские заключения. Взял отпуск по семейным обстоятельствам на 10 дней и поехал в Москву, чтобы помочь там. Когда вернулся, Рита взяла отпуск за свой счёт и поехала туда. А тем временем колесо военной машины медленно вращалось. Медицинские заключения от гражданских медицинских учреждений были признаны недостаточными и было поручено военкомату провести обследование. Но и военкомат дал такое заключение. И тогда на моём рапорте появилась такая примечательная резолюция: “Офицер и инженер хороший, но учитывая тяжёлое семейное положение перевести в Москву”. Над этой резолюцией потом смеялись московские кадровики - выходит, что в Москву надо переводить в обычных условиях только плохих инженеров и офицеров?
Наступал новый 1964 год. В последний раз мы праздновали его встречу вместе со всей нашей лабораторией, с которой успели сродниться, и, как обычно, с жёнами и мужьями “нашей лаборатории”. Праздновали в нашей квартире. К этому времени выехал очередной сосед из одной комнаты нашей квартиры, и другой сосед, замечательный парень, Паша Швабович, сумел получить эту освободившуюся комнату. Но занимать он её не стал и сказал - пусть она будет общая. Так она и осталась пустой. Иногда Паша или я в ней что-нибудь мастерили. Вот в этой пустой комнате был накрыт большой стол. А наша была отведена под танцы.
Праздник был замечательный. У нас и всегда на праздниках было много выдумки, а не просто застолье, а в этот раз особенно. Валерий Суходольский, о котором я уже рассказывал, принёс великолепную газету со множеством смешных фотографий всех участников и остроумными стихами. Был Дед-Мороз со своими поздравлениями (Орест Рогожинский). Был “ансамбль “Берёзка” (наши женщины, смешно наряженные), было много всякого, а ещё была Аэлита в сверкающем наряде (Таня Поликарпова), которая каждому вручила новогоднее поздравление - большой лист с фотографиями и стихами. Это она на фото.
На поздравлении, которое Аэлита вручила нам с Ритой было написано:
|
Кап. Яр окутан пеленой парчовою, В степи метёт метелица. Уедут нынче Толкачёвы, Наверно, им самим не верится.
Но мы желаем: уезжайте В свою Москву запорошённую И иногда лишь вспоминайте И нас, и эту степь сожжённую,
И эти запахи полынные, И этот ветер, злой, колючий, И “Старт”, и очереди длинные, И поймы вид с Кап. Ярской кручи. |
|
Вскоре после Нового года пришёл приказ о моём новом назначении, и мы уехали в Москву. И на этом, собственно говоря, заданная мне “тема сочинения” заканчивается.
По ходу написания этих записок меня не раз охватывало сомнение - могут ли они быть использованы для сборника воспоминаний “спецнаборовцев” о Кап. Яре. Слишком мало, по-моему, они похожи на мемуары. В параллель с их написанием я прочёл воспоминания о Кап. Яре одного из тех, кто собственно и “втравил” меня в это дело, “писателя-графомана” (как он сам себя, не без кокетства, называет), Николая Васильевича Иконникова. Вот это похоже на мемуары. Там и документальность, и множество фамилий, и цитаты, и исторические факты, и точные даты. Может быть только излишне много внимания (на мой взгляд) уделено политике и излишне много страстности и желчи по этому поводу.
А у меня получилось нечто совсем иное. Эмоции, впечатления, некое бытописание. Но, с трудом решившись начать писать эти воспоминания, я потом уже как-то не мог остановиться. Думаю, что если это не пригодится для сборника (да и будет ли он, этот сборник?), то возможно это прочтут мои потомки. Не знаю, конечно, захотят ли они это читать, будет ли им интересно. Могу судить только по себе: мне бы было интересно прочитать подобные записки своего деда, а уж тем более прадеда или ещё более пра…
Но пригодятся эти воспоминания для сборника или не пригодятся, захотят их читать потомки или не захотят, а писать это и как бы заново переживать свою молодость мне было интересно, и вот, теперь я добрался до конца. Точнее, почти до конца. Потому что, как мне кажется, нужно, хотя бы очень коротко, пунктирно, рассказать “что было с героем потом”. И поэтому я решил включить в свои записи заключительный раздел, что-то вроде эпилога, который, если действительно будет издаваться сборник с воспоминаниями спецнаборовцев о Кап. Яре, можно легко выкинуть. Этот раздел можно озаглавить так:
ПОСЛЕ КАП. ЯРА.
Мы приехали в Москву очень своевременно, потому что вскоре после нашего приезда у моего отца тоже случился инфаркт, и без нашей помощи моим родителям пришлось бы очень плохо.
В Москве быстро выяснилось, что, стремясь в этой тяжёлой ситуации побыстрее оказаться в Москве, я совершил две ошибки.
Во-первых, оказалось, что назначен-то я был не в Москву, а в Перхушково, а это, мягко выражаясь, не совсем Москва. Каждый день ехать на работу 40 километров на электричке, да ещё от электрички километра 3-4 на автобусе, который в неурочное время ходит очень редко. Стоило немного задержаться на работе (а такое было регулярно) - и иди пешком. Кроме того, по Москве надо ещё добраться до электрички. Словом, на дорогу в день уходило часа четыре.
А произошло это так. Когда мои документы, подписанные командованием полигона, ушли в Москву, и я, как на иголках, ждал перевода, на полигон приехал полковник Беляров Иван Павлович, начальник отдела измерений ГУРВО (Главного Управления Ракетного Вооружения - заказывающего управления Ракетных Войск). Наряду с другими вопросами он подыскивал себе в отдел офицера - направленца на системы телеизмерений нашего полигона. Говорил он, естественно, с телеметристами, а они ему посоветовали побеседовать со мной, так как самый трудный вопрос (чтобы отпустили с полигона) у меня решён, а полигон и системы телеизмерений я знаю.
Я, когда решался вопрос о моём назначении в Москву, как-то не задумывался о том, в какую конкретно организацию и на какую должность меня назначат. Меня это почему-то мало волновало, да и слишком всё заслонили проблемы с родителями. Поэтому, когда Беляров предложил мне пойти к нему в отдел, я, не особенно раздумывая, согласился. Мне было всё равно, лишь бы побыстрее. Не помню уж, знал ли я тогда, что ГУРВО к тому времени переехало из Москвы в Перхушково. Вероятно, знал, но из Кап. Ярской дали Перхушково и Москва сливались в одну точку. Это только в Москве стало видно, что между этими точками ещё и тире в пол сотни вёрст.
Впрочем, это была не очень страшная ошибка. Жалко, конечно, лишнее время, но можно жить и так. Гораздо хуже оказалось другое.
Когда Беляров, поговорив со мной, уехал в Москву, он через несколько дней позвонил мне и сказал, что можно моё назначение оформить приказом Министра обороны, но это долго. А можно приказом Главкома РВ, это очень быстро. Как лучше?
Существа этого вопроса я не понял, а Беляров мне не пояснил. Для него это было настолько привычно и понятно, что он вероятно даже не представлял, что я не понимаю в чём разница. В Москве ведь все знали, что московская прописка возможна только, если офицер назначен приказом Министра обороны. Но откуда мне было это знать! Я, конечно, с давних пор знал, что прописка в Москве ограничена, но исходил из обычной человеческой логики. В Москве я родился и жил, оттуда меня призвали в армию, сейчас меня переводят в Москву как единственного сына для ухода за больными родителями - мне и в голову не могло придти, что при всём при этом мне могут не разрешить жить в Москве. Я не понимал, что при существующей административной системе всё определяется соответствующими параграфами и смешно исходить из логики.
В своём наивном неведении я подумал, что чьим приказом меня назначить - это, вероятно, просто вопрос престижа. И, поскольку престиж меня волновал меньше всего, а время наоборот больше всего, я сказал Белярову, чтобы меня оформляли приказом Главкома РВ.
В Москве же, когда я через некоторое время после приезда пришёл в паспортный стол, чтобы прописаться, мне сказали, что не могут прописать без разрешения милиции. Ещё ничего не подозревая, я отправился туда. Принёс медицинские заключения и прочие бумаги, но разрешения не получил. Меня отправили в какое-то учреждение на Ленинградском проспекте, которое специально занималось вопросами прописки. Это оказалось большое здание, наполненное большим количеством людей. Людей уже изнервничавшихся, уставших от хождений по всяким канцеляриям, от невозможности решить жизненно важный и, казалось бы, простейший вопрос.
С этого заведения началось и моё “хождение по мукам”. Всего я прошёл инстанций примерно пять, закончив приёмной Верховного Совета СССР - выше органа в стране просто не было. Картина везде была одинаковой. Чиновник, который меня принимал, выслушивал меня, смотрел документы и как человек ничего не мог возразить. Ну, действительно, что можно возразить - единственный сын переведен в Москву для того чтобы ухаживать за родителями - лежачими больными. Причём всё это не слова, а подтверждено документально. Однако, ответ был всегда один - оставьте документы, решение будет выслано вам по почте. Через некоторое время по почте приходил ответ: “В прописке в Москве Вам отказано”. При этом копия ответа поступала в районное отделение милиции с указанием выдворить меня из Москвы. К нам приходил участковый. Родители, естественно, нервничали (только этого и нехватало в их положении!). Я говорил участковому - подождите, я обращусь в вышестоящую инстанцию.
Когда более вышестоящих инстанций уже не осталось, и к нам снова пришёл участковый с угрозами, я ему сказал: “Сам понимаешь, уехать я не могу. Поэтому я больше никуда не буду ходить, и ты ко мне не ходи. Копии решений к вам больше поступать не будут”.
И стали мы жить без прописки.
Мне то было проще, а вот для Риты это было гораздо сложнее. У неё ещё, как назло, кончился срок действия паспорта. А без него - никуда. Ни на работу устроиться, ни в поликлинику, ни на почту - да вообще, как бы вне закона.
Но постепенно всё стало как-то налаживаться. Родители немного оправились от болезни (хотя и очень относительно). Рита устроилась на работу в Вычислительный Центр Ракетных Войск, где с пониманием отнеслись к нашей ситуации и приняли её без прописки и с просроченным паспортом. А примерно через год мы получили двухкомнатную квартиру в Одинцове и стали полноправными гражданами Советского Союза.
Это была первая отдельная квартира в нашей жизни, и мы были просто счастливы. Квартира с нынешних позиций незавидная - в “хрущобе”, смежные комнаты, крохотная кухня, совмещённый санузел. Но тогда это казалось фантастикой. Ведь когда Хрущёв провозгласил лозунг: “Каждой семье - отдельную квартиру”, я считал это обычной пропагандистской акцией, типа Продовольственной программы или коммунизма к 1980 году. Я просто представить даже не мог, что я когда-нибудь буду жить в отдельной квартире. Тогда ведь все жили в коммуналках, часто многокомнатных. Как у Высоцкого: “ Система коридорная, на сорок восемь комнаток всего одна уборная”. Я и сам родился и жил первые 7 лет своей жизни в бараке. Это ещё считалось привилегированным жильём - барак ИТР (инженерно-технических работников) Первого Государственного подшипникового завода (мой отец строил этот завод), потому что он был разделён фанерными перегородками на отдельные комнаты. Рабочие же жили с семьями в больших бараках, где семья от семьи отделялась ситцевой занавеской. А уж жизнь в коммунальной квартире, где всего три комнаты и трое соседей (как я жил вплоть до отъезда из Москвы в Кап. Яр) - это считалось шикарным, несмотря на то, что в Москве нередко в десятиметровой комнате жило пять - семь человек.
В ГУРВО я сразу попал в такой “горячий цех” и за первый же год прошёл такую школу, что последующие более чем 20 лет моей службы в центральном аппарате Ракетных войск и Генеральном штабе уже были для меня не слишком трудными. Дело в том, что попал я, как я уже говорил, в отдел измерений. А в Ракетных войсках было несколько странное, на мой взгляд, отношение к полигонным измерительным службам. И в ГУРВО, и на полигоне для отделов, которые занимались боевыми системами ракет, не жалели ни людей, ни наград по случаю какого-нибудь очередного успеха. На отделах же измерений почему-то экономили.
Я ещё на полигоне удивлялся. Каждый из офицеров, работавших с боевыми системами, как правило, занимался какой-то определённой ракетой, определённой системой, и, соответственно, хоть иногда и работал сутками, но иногда имел какие-то “окна”. Телеметристы же работали со всеми ракетами и системами, поэтому и загрузка у них была больше, чем у офицеров боевых систем. Кроме того, обеспечивая телеизмерения, они вынуждены были знать все системы ракет, и знать до тонкостей.
Нередко я наблюдал такие, странные, на мой взгляд, картинки. Телеметрист докладывает результаты телеизмерений на комиссии, анализирующей результаты пуска. А специалисты по системам ракеты задают ему вопросы, которые, казалось бы, никак не относятся к его компетенции. Допустим, кто-то из двигателистов спрашивает: “А почему на 39-й секунде возросло давление в камере сгорания?”. И телеметрист, нисколько не удивившись и не сказав что-нибудь вроде: “Это я у тебя должен спросить!”, начинает спокойно объяснять.
Когда же дело доходило до “лавровых венков”, телеметристам отдельные веточки доставались в последнюю очередь - это же обслуживание, не боевые системы.
Подобная картина была и в ГУРВО. Людей на это направление не давали, и нагрузка у офицеров отдела была просто запредельной. Я получал за год свыше 1200 входящих документов, т.е. по 4-5 документов каждый рабочий день. А ведь это были не просто бумажки, каждая требовала немалой работы. К тому же, если по ракетам в целом и их боевым системам были отдельные управления по разработке и по серийному производству, то наш маленький отдел вёл всё: и НИР, и ОКР, и серийное производство, и оснащение всех трёх полигонов РВ всем необходимым для измерений. Причём, отдел занимался отнюдь не одной телеметрией. Мы вели разработку и поставку систем измерения траектории, измерения вектора скорости и других систем и средств полигонных измерений. Я вёл около полутора десятков договоров с предприятиями и, соответственно, руководил таким же количеством военных представительств. Неудивительно, что вначале я просто “зашился”. Сумасшедший объём работы, и, к тому же, не было ещё необходимого для работы в центральном аппарате опыта, уверенности, да и спокойствия, когда видишь, что что-то всё же не успел или не сумел сделать как надо бы было. Если бы не помощь более опытных офицеров отдела на первом этапе моей работы в ГУРВО, возможно я просто не выдержал бы этого испытания.
Тяжким грузом ложилась ещё высокая ответственность за принимаемые мной решения, возможную их неоптимальность или просто ошибки. Если на полигоне я отвечал только за свой довольно узкий участок работы, то здесь моё неверное решение могло “поставить на уши” все полигоны, сорвать сроки испытаний ракетных комплексов, или, по крайней мере, здорово затруднить их выполнение.
Я должен был обеспечивать полигоны всем необходимым телеметрическим оборудованием. Заказывать его нужно было заранее, ведь изготовление занимало немало времени. В то же время, какие ракеты и когда поступят на испытания, какое на них будет бортовое телеметрическое оборудование – известно было очень приблизительно. Если к началу испытаний ракетного комплекса на полигоне не будет необходимого наземного телеметрического оборудования, возникнет задержка и неизбежный громкий скандал. Но заказывать «на всякий случай» неизвестно что тоже нельзя – это и огромные лишние затраты государственных средств, да и некуда будет девать изготовленные средства, полигонам они будут не нужны. Поэтому работа требовала огромного напряжения и была чрезвычайно нервной.
Немалых знаний и напряжения требовалось и при принятии технических решений по разрабатываемой аппаратуре. Запомнилось, например, как ещё на самом начальном этапе моей работы я участвовал в совещании по разработке больших телеметрических антенн (ТНА-29, ТНА-103, 104). Совещание проводил Председатель Мосгорсовнархоза (был такой высший руководящий орган в народном хозяйстве при Хрущёве) - Доенин. В совещании участвовали Главные конструктора и просто конструктора организаций, разрабатывающих и изготавливающих эти антенны, и я, как представитель заказчика. Обсуждались серьёзные технические и конструкционные проблемы. Конструктора много спорили. Когда споры приняли слишком горячий характер, Доенин сказал:
- Довольно! Как заказчик скажет, так и будем делать.
И все взоры обратились ко мне. Легко представить, как я чувствовал себя в этой ситуации.
К счастью для меня, на этой адовой работе я был не так уж долго - около двух лет. Не выдержал начальник нашего отдела, полковник Беляров. Он написал рапорт, что так работать невозможно, и необходимо, либо увеличить штат отдела в три раза, либо ликвидировать отдел.
Увеличить всегда трудно, а ликвидировать просто. Тем более, что в это время в Советском Союзе начиналась разработка ракет нового типа - твердотопливных, и для этого в ГУРВО нужно было создать новое управление. И вот руководство ГУРВО, “ничтоже сумняшеся”, отдел измерений ликвидировало, а штатные единицы его использовало при формировании нового управления.
Конечно, ликвидация отдела не решила проблемы - необходимость в этих работах ведь не исчезла вместе с отделом. Была фантастическая идея передать большинство работ отдела НИИ-4, но, как и положено фантастике, она оказалась далёкой от реальности. Пришлось их распихивать по другим подразделениям ГУРВО и ГУКОС (Главное управление космических средств). Когда я через год встретился с одним из офицеров нашего бывшего отдела (уже работавшим в другом месте), он мне с горечью сказал, что по его подсчётам нашу тематику теперь ведут вместо нас шестерых (столько было в отделе) свыше 30 человек.
Но меня это уже мало волновало. Я попал в новое Управление твердотопливных ракет (третье управление ГУРВО), в отдел систем управления, где начальником был прекрасный человек, подполковник Калиновский Виталий Николаевич. Правда, противовесом ему оказался начальник управления Косьминов Иван Сергеевич, тогда полковник, позже - генерал. Всегда мрачный, всем и всеми недовольный, никогда не улыбающийся и смотрящий всегда как-то исподлобья.
На меня было возложено всё, что было в области радиоэлектроники на разрабатываемых твердотопливных ракетах. А конкретно, это была система радиоуправления, которая разрабатывалась для ракеты РТ-2 (8К98), создаваемой С.П.Королёвым, только-только появляющиеся БЦВМ (бортовые цифровые вычислительные машины) и комплексы средств преодоления противоракетной обороны противника (КСП ПРО).
Система радиоуправления была задумана прекрасной - не чета тем, с которыми я имел дело на полигоне. Один наземный комплекс должен был управлять несколькими ракетами, работая с каждой всего несколько секунд. При этом должна была обеспечиваться высокая помехоустойчивость. Но, в итоге, даже это не привело к принятию его на вооружение. Как я уже говорил, в связи с резким прогрессом в автономных системах управления и принципиальными недостатками систем радиоуправления, эра их прошла. Но на первом этапе разработки ракеты РТ-2 система радиоуправления для неё планировалась.
С возложенной на меня в новом управлении тематикой связаны последние запомнившиеся мне контакты с теперь уже легендарным конструктором первых советских баллистических ракет - Сергеем Павловичем Королёвым.
Когда я был на полигоне, мне не доводилось иметь с ним каких-нибудь рабочих контактов. Сначала я даже не знал его в лицо, хотя он нередко приезжал на наш полигон, особенно до того, как начал работать полигон в Тюра-Там.
Впервые я столкнулся с ним при таких смешных обстоятельствах. Это было в самом начале моей службы на полигоне. Мы с Эдиком Стеблиным зачем-то зашли в зал технической позиции на своей родной второй площадке. Там шла работа с какой-то ракетой, к которой мы не имели никакого отношения. По-моему, это была одна из ракет, которые запускали вертикально для геофизических и биологических исследований. От нечего делать мы стояли и глазели. Вдруг к нам подошёл какой-то невысокий гражданский человек и довольно резко, раздражённо сказал:
- А вы что тут делаете! Уходите отсюда!
Мы возмутились. Какой-то гражданский на нашей собственной территории будет указывать нам, где мы можем или не можем находиться! Но я-то успел возмутиться только внутренне, а Эдик возмутился и внешне. И своё возмущение, впрочем, во вполне вежливой форме, этому гражданскому и высказал. Тот вскипел:
- Как Вы со мной разговариваете! Выньте руки из карманов!
Руки Эдик принципиально не вынул. Этот неизвестный, сказав ещё что-то злое в наш адрес, ушёл, а к нам подошёл кто-то из офицеров, наблюдавших эту сцену со стороны, и объяснил, что это был Королёв. Не знаю уж, почему он на нас набросился - может быть был чем-то раздражён. Никаких последствий этот эпизод не имел, видимо Королёв никому из нашего начальства не нажаловался - да и на что жаловаться!
В ГУРВО мне приходилось уже по работе встречаться с Королёвым, правда редко. Чаще с его заместителями. Запоминается всегда что-то не совсем обычное, нестандартное, чем-то выпадающее из обычного ряда текущих событий. Поэтому мне запомнились две встречи с Королёвым.
Первая происходила при таких обстоятельствах. В ОКБ-1 на совместном заседании Научно-технического совета Министерства общего машиностроения (за этим названием пряталась ракетная промышленность) и Научно-технического комитета Ракетных Войск проходила защита эскизного проекта комплекса средств преодоления ПРО для ракеты РТ-2. От заказывающего управления там присутствовали начальник нашего управления Косьминов и я. Комплекс был разработан ЦНИРТИ МРП (Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт Министерства радиопромышленности). Главным конструктором КСП ПРО для ракеты РТ-2 был Герасименко Виталий Максимович.
На заседании выступали представители ЦНИРТИ и, естественно, очень расхваливали свою разработку. Представители Министерства и ОКБ-1 их поддерживали. Этот КСП ПРО (его шифр был “Берёза”) действительно повышал вероятность преодоления ПРО, но имел много недостатков, о которых выступавшие не говорили. Это нетрудно понять. КСП ПРО отнимает часть полезной нагрузки, чрезвычайно нужной конструкторам, поэтому они готовы слегка закрыть глаза на не слишком высокую его эффективность, лишь бы минимизировать его вес. Я ещё раньше докладывал Косьминову о недостатках “Берёзы”, поэтому, услышав, что все только хвалят комплекс, он мне сказал:
- Вам надо выступить.
Я и выступил. Но, не имея опыта в бюрократическом этикете, построил своё выступление неправильно. Не знаю, как сейчас, а в ту пору было принято, выступая на подобных обсуждениях, прежде всего похвалить разработчиков и конструкцию, отметить достоинства, а потом уже, сказав что-то вроде: “однако есть и некоторые недостатки”, можно говорить о недостатках. Я же, не зная этих “правил приличия”, полагал, что нельзя зря отнимать время у таких высокопоставленных людей (главных конструкторов, руководителей министерств) и сразу “взял быка за рога”. Я просто сказал, что представленный на рассмотрение комплекс имеет ряд недостатков. И перечислил их, один за другим. Всего я назвал их свыше двадцати. Пока я выступал, все слушали молча, но как только я закончил, Королёв, сидевший в президиуме и председательствующий на заседании, сразу встал и спросил меня:
- Вы член НТК?
Я не успел и рта раскрыть, как Косьминов из зала поспешно ответил:
- Нет, он не член НТК.
И тут Королёв, хоть и в вежливой форме, отчитал меня. Он говорил примерно такие слова:
- Как же так! Лучшие конструкторы страны год работали, создали принципиально новый комплекс, а у Вас не нашлось даже ни одного доброго слова в адрес этой работы!
Когда я сел на место, увидел, что Косьминов мрачен. Он, правда, почти всегда был мрачен, но тут чувствовалось, что он нервничает. В ту пору он стремился получить генеральское звание, а от Королёва в этом деле многое зависело, и портить с ним отношения Косьминову явно не хотелось.
После заседания всё высшее руководство отправилось на банкет. “Мелких сошек”, вроде меня, не пригласили, и я ждал Косьминова в машине. Вернулся он повеселевший и подобревший и сказал мне:
- Ничего! Королёв сказал: “Зубастые у тебя ребята”.
Вторая запомнившаяся мне встреча сама по себе
была довольно обыденной и запомнилась по другой, страшной причине. В конце 1965
года было разработано ТЗ (техническое задание) на разработку системы
радиоуправления для ракеты РТ-2. Я курировал разработку этого ТЗ. Как всегда,
нехватало времени, а тут - конец года, сроки поджимают. Короче говоря, ТЗ было
готово для дальнейшего согласования только в конце дня 30 декабря. И 31 декабря
рано утром мы с Геннадием Алексеевичем Солнцевым, заместителем Косьминова,
повезли это ТЗ на согласование к Королёву в ОКБ-1. Визит наш был очень коротким.
Королёв задал пару каких-то малозначащих вопросов, взял у нас ТЗ, подсунул под
скрепку небольшую бумажку (именуемую в чиновничьем мире “клапанок”) и написал на
ней: “В. срочное. тт. Крюкову С. С., Барденштейну С. Е. Пр. к 11.00 дать Ваши
соображения”. Расписался и поставил дату и время: 31.12.65. 8.40. Мы уехали.
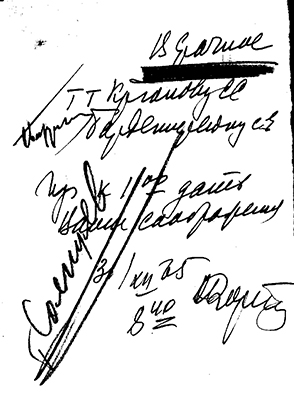
Потом был Новый год, школьные каникулы. Я и не заметил, как пролетело две недели. И вдруг, как гром среди ясного неба, известие: Королёв умер! Для меня это известие было просто шоком. Как же так! Ведь мы словно только вчера с ним разговаривали, он был как будто бы такой как обычно, я не заметил никаких признаков какой-нибудь болезни или подавленного настроения. И вот - нет человека. Да какого человека!
После него ведь ОКБ-1 (ныне КБ “Энергия”), несмотря на смену ряда руководителей, так и не смогло удержать своего прежнего авторитета - лидера отечественного ракетостроения.
Когда ТЗ из ОКБ-1 вернулось ко мне, “клапанок” Королёва так и был к нему приколот. Я вытащил его и взял себе на память. Храню его до сих пор. Я думаю, что теперь это уже музейная вещь. Один из последних (если не самый последний) рабочих автографов Королёва, к тому же ярко иллюстрирующий его чёткость и оперативность в организации работ. Вот он, этот «клапанок».
Расскажу ещё об одном случае, выпадающем из обычного ряда относительно спокойных деловых контактов с руководящим составом ОКБ-1. Речь пойдёт о возникшем у меня конфликте с одним из заместителей Королёва - Трегубом Яковом Исаевичем.
Для того, чтобы затруднить системе ПРО селекцию ГЧ (головной части) ракеты на фоне ложных целей, истинные радиолокационные характеристики ГЧ скрывались. В связи с тем, что наш “вероятный противник” (т.е. США) тщательно отслеживал все пуски, на головные части устанавливались специальные средства для искажения их радиолокационных характеристик.
ОКБ-1, столкнувшись с тем фактом, что ракета РТ-2 не вполне обеспечивает заданную точность попадания в цель, решило проверить, а не ухудшают ли точность средства искажения. И вот однажды Косьминов дал мне указание поехать в ОКБ-1 к заместителю Королёва Трегубу Якову Исаевичу для рассмотрения и согласования какого-то документа, не сказав даже, о чём пойдёт речь. Когда я приехал к Трегубу, он дал мне проект совместного решения ОКБ-1 и ГУРВО о том, что в целях определения влияния средств искажения на точность стрельбы два пуска РТ-2 будут проведены без этих средств.
Я стал ему говорить, что этого ни в коем случае нельзя делать, так как конечный участок траектории наблюдается американскими локаторами с острова Шемия, не говоря уже о специально оборудованных американцами для этих целей судах “Генерал Арнольд” и “Генерал Вандерберг”. Получение ими истинных характеристик ГЧ резко снизит эффективность преодоления ПРО. Но он грубо оборвал меня:
- Вы что, учить нас приехали! Я лучше Вас всё знаю! Вы будете подписывать документ?
Я отказался. Он тут же, при мне, позвонил Косьминову и сказал, что вот приехал тут такой-то от Вас и вздумал нас поучать. Не знаю, что сказал ему Косьминов, но я уехал, ничего не подписав. Больше передо мной этот вопрос не ставился, но позже я узнал, что это решение всё же ГУРВО подписало. Видимо Косьминов подписал его сам.
Однако, история на этом не кончилась. Один пуск без средств искажения успели провести, но об этом решении стало известно начальнику 9 отдела Главного штаба Ракетных войск полковнику Галактионову Сергею Ивановичу.
Девятые отделы, существовавшие тогда в центральном аппарате Министерства обороны от Генерального штаба до штабов видов Вооружённых Сил, занимались тем, что американцы называли радиоэлектронной войной, и впоследствии стали основой, на которой создавалась служба радиоэлектронной борьбы в наших Вооружённых Силах.
Так вот, узнав об этом, можно сказать преступном, решении, Галактионов доложил Начальнику Главного штаба и, кроме того, об этом узнал представитель КГБ при Главном штабе, а с этой организацией тогда шутки были плохи. Ситуация для Косьминова стала критической. Второй пуск был запрещён, а был ли наказан Косьминов и как, я не знаю. По уставу не положено подчинённым знать о наказании их начальников.
Эта история сыграла важную роль в моей дальнейшей военной биографии.
В тот период как раз в Вооружённых Силах развёртывалась служба радиоэлектронной борьбы. Называю её современным термином, хотя в процессе эволюции эта служба, как какой-нибудь рецидивист, постоянно меняла имена: БРЭСП (борьба с радиоэлектронными средствами противника), ЭПД (электронное подавление), РЭП (радиоэлектронное противодействие) и, наконец, РЭБ (радиоэлектронная борьба). Может быть даже я что-то пропустил, и, возможно, поспешил сказать “наконец”, ибо склонность к переименованиям в России просто патологическая.
Переименования радиоэлектронной борьбы - это только крохотная капля, отражающая общую картину. Все перемены в стране (по крайней мере за последние 20 лет) можно кратко сформулировать так: “Всё переименовать, ничего не менять”. Все реформы сводятся к бесконечным переименованиям, мало что меняя по существу. Можно привести тысячи примеров. Когда я после увольнения из Вооружённых Сил работал в Министерстве нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, Министерство непрерывно реформировалось. Создавались главки, потом ликвидировались, вместо них создавались ВПО (всесоюзные промышленные объединения), потом департаменты - и т. д. А по сути ничего не менялось, и подавляющее большинство людей за время этих реформ даже не оторвались ни разу от своего стула. Где сидели - там и продолжали сидеть, что делали - то и продолжали делать.
Можно взять любую другую область. Например, в конце концов, многие (но далеко не все!) поняли, что бесплатная медицина - не так уж хорошо, как мы привыкли считать. Ведь на самом деле ничего бесплатного быть не может! Здания поликлиник и больниц, их мебель, оборудование, приборы, зарплата врачей и сестёр - всё это деньги. И то, что они платятся государством - это вовсе не благо для простых людей. Ведь государство берёт эти деньги у нас, недоплачивая нам за наш труд. А потом услуги этой “бесплатной” медицины госчиновники распределяют на свой лад. Им - лучшие поликлиники, больницы, санатории с новейшим оборудованием и лучшими врачами, а основной массе людей, которая фактически всё это оплатила - убогие замызганные поликлиники с ископаемым оборудованием и бесконечными очередями. Этим “загнившим” западноевропейцам или американцам вероятно просто дико, что область деятельности целого Главка Минздрава - не какие-то направления развития или обеспечения медицины, а обслуживание сановников и приближённых к ним лиц. И вот, наконец, как будто бы, революция. Мы, как все цивилизованные страны, перешли на страховую медицину. Что-нибудь изменилось? Да ничего подобного! Всем выдали страховые полисы (за которые никто не платил страховых взносов), медицинскую помощь по-прежнему оплачивает государство и распределяют чиновники, распределяют, естественно, точно так же, как и раньше. Но зато всё переименовано. Медицина - страховая. Вместо 4-го Главка Минздрава - Лечсанупр Кремля. А все больницы, поликлиники - какими были, такими и остались, даже не заметив “революционных” перемен. И сановники по-прежнему пользуются элитной медициной в тех же самых больницах, а остальные люди часами стоят в очередях к нищим озлобленным докторам, лежат в 20 местных палатах и коридорах больниц, и, как не имели, так и не имеют никакого выбора. И так во всём.
Даже в таком, казалось бы, революционном преобразовании в стране - ликвидации “руководящей и направляющей” с её Генеральным секретарём и появлении такой небывалой фигуры как президент, перемены чисто внешние. А по существу, президент ничем не отличается от Генерального секретаря ЦК КПСС. Так же стоит над всем и так же ни за что не отвечает. Если что-то плохо, значит виноват председатель правительства.
Ельцин менял их с калейдоскопической быстротой, а сам не был ничуть виноват во всех провалах и бардаке, которые были в стране. Странная система. В США есть президент. Но он не витает над схваткой, а является главой исполнительной власти, всем руководит в рамках имеющихся законов и за всё отвечает. В Великобритании всем руководит и за всё отвечает премьер-министр. Но там нет президента. А у нас есть и президент, и премьер-министр. Только президент - в чистом виде Генеральный секретарь ЦК КПСС. Кстати, так называемый аппарат президента - полная аналогия аппарата ЦК КПСС. Они даже сидят в тех же зданиях ЦК КПСС на Старой площади, и, как говорят, там такие же подразделения и нередко те же люди, что были в аппарате ЦК КПСС. Тоже так и не оторвались от своих стульев.
Однако я в очередной раз отвлёкся.
Служба РЭБ в наших Вооруженных Силах развивалась своеобразно. Графически это можно изобразить в виде последовательных отдельных всплесков, сопровождаемых более или менее плавным спадом. Происходило это так.
Когда во время войны во Вьетнаме Советский Союз ввёз туда зенитно-ракетные комплексы, поначалу очень эффективные, то американцы вскоре по программе “Wild weasel” разработали и поставили на свои самолёты средства радиоэлектронного подавления. И оказалось, что в этих условиях эффективность наших зенитных ракет близка к нулю. Это послужило хорошим уроком руководству Вооружённых Сил, и было решено широко развернуть работу в области радиоэлектронной борьбы. Вместо девятых отделов были созданы управления в Генеральном штабе и штабах видов Вооружённых Сил. Созданы соответствующие подразделения в войсках.
Потом шла обычная жизнь. При каждом очередном сокращении Вооружённых Сил и их центрального аппарата (а такие команды поступали регулярно), отцы-командиры думали - кого же сократить. Сокращать старые привычные подразделения, или эту непонятную службу РЭБ. Думаю, не надо говорить, что они выбирали. И служба РЭБ понемногу съёживалась почти до исходного состояния. Потом, во время очередной арабо-израильской войны выяснялось, что ни наши средства ПВО, ни самолёты ничего не могут сделать в условиях применения израильтянами средств радиоэлектронной войны. Очередная вспышка интереса к РЭБ, очередное расширение. И снова плавное затухание.
Непробиваемая армейская косность! Ни один командир не мог понять, что лучше получить чуть меньше самолётов или танков, но зато оснастить их средствами РЭБ. Что сейчас самолёт без средств РЭБ в лучшем случае нечто неэффективное, а чаще - просто летающий гроб. Доказать это высшим командирам было невозможно. Они исходили из своего старого, правильнее сказать устаревшего, опыта. Точно так же многие наши военачальники к началу Отечественной войны возлагали большие надежды на кавалерию.
Как раз в период моего конфликта с Трегубом проходило крупное расширение службы РЭБ. В Главном штабе Ракетных войск вместо 9 отдела создавалось Управление радиоэлектронной борьбы, и Галактионову требовались люди. Поскольку в Ракетных войсках главное направление радиоэлектронной борьбы - это обеспечение преодоления головными частями наших ракет противоракетной обороны противника, взор Галактионова и обратился в ГУРВО, где этими вопросами в первом управлении (разработки жидкостных ракет) занималось несколько человек в отделе полковника Шеймова и в нашем третьем управлении (твердотопливных ракет) один я.
Похоже, что на Галактионова произвело впечатление, что я в одиночку, несмотря на давление ОКБ-1 и собственного начальника, доказывал недопустимость пусков ракет без средств искажения. Кроме того, он и раньше хорошо знал меня, так как мы тесно взаимодействовали по вопросам преодоления ПРО, и он предложил мне должность начальника отдела в своём управлении. Я, конечно, с радостью согласился. Мало того, что это было для меня повышением в должности сразу через две ступени, так ведь ещё и очень интересная работа!
Но - не тут-то было! Выбранного Галактионовым из первого управления Морозова Евгения Львовича, которому он предложил должность заместителя начальника отдела, отпустили без разговоров. В армии, как правило, на повышение принято отпускать. Однако отпустить меня Косьминов категорически отказался. Говорил что-то туманное о том, что и здесь меня повысят в должности. Я ничего не мог поделать.
Много усилий приложил Морозов, чтобы добиться моего перевода. Работая по одной тематике, хотя и в разных управлениях, мы неплохо знали деловые качества друг друга и хотели работать вместе. Поэтому Морозов настраивал Галактионова на то, что надо преодолеть сопротивление Косьминова. Но сделать это было непросто.
И вот тут сыграла роль история с этим решением, которое подписал Косьминов. В эту пору ещё шло разбирательство, Косьминову грозили большие неприятности, особенно в связи с тем, что возникла угроза вмешательства в это дело КГБ. И Галактионов, как он сам потом говорил мне, пообещал Косьминову, что он “самортизирует” этот скандал, если Косьминов отпустит меня. Так я, уже потерявший надежду на новое назначение, в 1969 году оказался в Управлении РЭБ ГШРВ (Главного штаба Ракетных войск).
Работа на новом месте, как я и ожидал, была очень интересной. Морозов - очень инициативный и энергичный человек, и мы сумели организовать и выполнить ряд очень на мой взгляд нужных и важных работ.
В первую очередь надо отметить создание моделей ПРО противника - боевой, т.е. существующей в данное время, и перспективной, т.е. той, которая может быть, когда только ещё разрабатываемые ракеты поступят на вооружение. Ведь для того, чтобы создавать эффективные комплексы средств преодоления ПРО, надо хорошо знать характеристики этой ПРО. А они, естественно, засекречены, и данные по ним, в том числе и добытые разведкой, очень скудны. Мы организовали походы разведывательных кораблей к атоллу Кваджелейн, где американцы испытывали элементы своей системы ПРО “Сейфгард”, которую планировали развернуть в ближайшее время. В эти походы ходили наши представители (в том числе и сам Морозов) со своей аппаратурой для записи сигналов РЛС ПРО, аппаратурой по тем временам довольно уникальной. Удалось получить ряд важнейших характеристик, недостающие же данные восполнялись аналитическими методами с привлечением ведущих военных и гражданских НИИ.
Это позволило обеспечить необходимыми исходными данными и ГУРВО, как заказчика, и предприятия промышленности, ведущие разработку средств преодоления ПРО. В результате наши средства преодоления ПРО обеспечивали эффективное преодоление системы “Сейфгард”. И я думаю, что США пошли на договор 1972 года об ограничении создания систем ПРО именно потому, что увидели это. Ведь в создании самих систем ПРО мы безнадёжно отставали, и вряд ли американцы пошли бы на такой неравный договор с нами, если бы не поняли, что наши КСП ПРО превратили строительство системы “Сейфгард” в пустую трату денег.
Однако же я собирался рассказывать о периоде после Кап. Яра пунктиром, а меня как-то затягивает в подробности. Буду исправляться.
В результате очередных сокращений (о которых я писал выше) управление РЭБ ГШРВ деградировало в Службу. Отделы были ликвидированы. Часть людей сокращена. Мы все стали просто старшими офицерами. В связи с этим, когда Управлению радиоэлектронной борьбы Генерального штаба потребовался офицер-направленец на Ракетные войска, Морозов перешёл в Генеральный штаб. Там он быстро выдвинулся, стал заместителем начальника отдела, и на освободившееся место направленца на Ракетные войска предложил мою кандидатуру.
При этом история повторилась. Теперь уже начальник Службы РЭБ ГШРВ (им к тому времени стал генерал-майор Карулин Олег Николаевич) отказался отпускать меня. Но Генеральный штаб не мог допустить такого неуважения. Тут уж, возможно, сыграло роль не непременное желание взять именно меня, а что-то вроде самолюбия начальника Управления РЭБ Генерального штаба (направляемого опять-таки Морозовым). Генеральный штаб в приказном порядке затребовал моё личное дело, и в 1973 году я был назначен старшим офицером первого отдела Управления РЭБ ГШВС (Генерального штаба Вооружённых Сил).
В Генеральном штабе я столкнулся с рядом новых, непривычных для меня вещей. Если в Ракетных Войсках при каких-то осложнениях международной обстановки максимальной реакцией было приведение их в повышенную или полную боевую готовность, то в Генштабе Управление РЭБ непосредственно участвовало во всех локальных конфликтах, где явно или тайно был замешан Советский Союз (то есть почти везде). Это выражалось в том, что туда поставлялась техника и направлялись специалисты. Так что многие офицеры нашего управления побывали в, как теперь бы сказали, “горячих точках”. Особенно много - в качестве военных советников в арабских странах, где некоторые непосредственно участвовали в боевых действиях во время многочисленных арабо-израильских конфликтов. По этому поводу я даже однажды написал такую песню:
|
Уж много лет страна моя Не проливает кровь в боях, А нас война не выпустит никак.
Как мушкетеры - в гуще драк, И снова бой, и снова враг, И, только вот, антенны вместо шпаг.
“Фантомов” вой над головой, В пустыне бой и в джунглях бой, Оружие моё не чертит трасс,
Но, если цель теряет “Хок”, И ПТУРС опять уходит вбок, Пусть кто-то добрым словом вспомнит нас. |
Однажды и мне довелось послушать грохот не учебной, а реальной боевой стрельбы. Но не на Ближнем Востоке, а в Афганистане, куда я был командирован со странной, казалось бы, задачей. Организовать подавление помехами радиосвязей нашей 40-й Армии, которая вела там боевые действия. Но, конечно, не в помощь душманам. Наш радиоконтроль вскрывал много грубейших нарушений в эфире, когда открытым текстом передавались важнейшие сведения о подразделениях, проводивших боевые рейды: сколько у них людей, вооружения и боеприпасов, каким маршрутом пойдут и т.д. Такие нарушения в тех условиях могли обернуться большой кровью. Не знаю, понимали ли это командиры, которые запрашивали и передавали такие сведения. Может быть они считали маловероятным, что эту информацию перехватит противник (а напрасно!), но наверняка главным было то, что каждый командир боялся, что вдруг его начальник запросит эти данные, а он и не знает, что происходит с его подразделением. Это может быть чревато для его военной карьеры.
Бороться с этим было крайне трудно, вот и было решено, рядом со станциями радиоконтроля установить станции радиопомех, чтобы при появлении таких грубых нарушений сразу же подавлять этот канал радиопомехами. Эту работу мы и выполняли вместе с ещё одним офицером нашего управления.
Работа сугубо техническая - не с автоматом в бой. Но стрельбы я там наслушался достаточно. Даже в Кабуле, чуть начинало темнеть, штаб 40-й Армии, расположенный в бывшем дворце Амина на окраине города, изготавливался к бою. Со стороны города выставлялись БТРы, в укрытиях в готовности стояли санитарные машины. Наступала ночь, и начинался бой. Из так называемой “зелёнки” - чахлой и редкой полосы деревьев на окраине города - начинали поливать из автоматов по территории штаба. БТРы огрызались короткими очередями крупнокалиберных пулемётов.
Думаю, что эта стрельба велась скорее в психологических целях - не могли же афганцы всерьёз рассчитывать, что нанесут какой-то урон офицерам и солдатам штаба. Взять штаб штурмом у них явно не хватило бы сил, да и все подходы со стороны города были заминированы. А жилые модули были на обратных склонах холмов, автоматы и пулемёты им были не страшны. Говорят, что были случаи, когда велась стрельба из миномётов и были жертвы, но при мне такого не было.
Однако спать под непрерывную канонаду было как-то неуютно. Особенно в первые дни. Временами стрельба настолько усиливалась и приближалась, что я думал - может быть надо вставать и одеваться? Может, прорвались? Постепенно привык и спал спокойно. Человек удивительно способен привыкнуть ко всему.
От этой командировки осталось очень тяжёлое впечатление - много чего я там насмотрелся. Да и вернулись мы не все. Один из офицеров, который летел с нами в самолёте в Афганистан, оттуда не вернулся. При перелёте в Джелалабад вертолёт, на котором он летел, был подбит при посадке из гранатомёта.
Под впечатлением этой командировки я написал такое стихотворение:
|
То встречаемся, то прощаемся И навстречу чужим ветрам Улетаем и возвращаемся Из далеких и странных стран.
Из долин, где дикие, грязные, Непонятные люди живут, Где грохочет война напрасная, Хорошо возвратиться в Москву.
Здесь октябрьское небо с просинью, Тучи город пока щадят. Тихо тает золото осени На бульварах и площадях.
По утрам ледяная кашица После первых холодных ночей, И война нереальной кажется Здесь, в нарядной толпе москвичей.
Все весёлые, все беспечные, Я бы тоже таким быть мог, Но мешает в душе покалеченной Страшных дней и ночей комок.
|
В Генеральном штабе я и закончил свою военную службу. Прослужил я там до 1985 года, то есть больше 12 лет. Был сначала старшим офицером, потом начальником группы, потом заместителем начальника отдела. В июне 1985 года, когда начальником моего отдела решили назначить вернувшегося из годовой командировки в Сирию генерала, с которым мне не хотелось работать, так как я считал его не очень порядочным человеком, я подал рапорт на увольнение в запас. Полковнику тогда было положено служить до 50 лет, но на 5 лет срок службы продлевался автоматически и ещё на 5 лет мог быть продлён по специальному представлению. Мне было уже почти 55, и начальник управления не мог мне отказать. Я лёг в госпиталь на “горизонтальные испытания” (тогда это было обязательным) и к осени 1985 года был уже гражданским человеком.
Служба в Генеральном штабе была, пожалуй, самым неприятным этапом моей военной биографии. Оказалось, что по существу, Генеральный штаб - это штаб Сухопутных войск. Нет, конечно, там были отдельные подразделения и офицеры-направленцы на другие виды Вооружённых Сил, но, в основном, этими видами командовали их собственные главные штабы, а Генеральный штаб преимущественно занимался военными округами и группами войск, так как в случае войны именно ими, преобразованными во фронты, он и должен был руководить. Соответственно и состоял Генштаб в основном из офицеров Сухопутных войск. А это люди, сильно отличающиеся от офицеров Ракетных войск, причём не в лучшую, с моей точки зрения, сторону. Ведь в Ракетных войсках практически все офицеры имеют высшее образование, инженеры. В Сухопутных же войсках инженеров мало, да они и не очень-то котируются. Тут всем верховодят командиры. И образование их, даже высшее командное образование, на мой взгляд, не способствует развитию интеллекта. Соответственно, и вся жизнь, традиции или, как сейчас бы сказали, менталитет, совсем другой и довольно неприятный. Не хочется развивать эту тему, скажу только, что пресловутая “дедовщина” - это не что-то странное и чужеродное, а явление, вполне логично вписывающееся в общую атмосферу Сухопутных войск, хотя, разумеется, она существует лишь в солдатской среде. У офицеров совсем другое и на другом уровне, но тоже крайне неприятное. Я к этому не привык, в Ракетных войсках такого не было. Особенно на полигоне или в ГУРВО, где всегда были нормальные человеческие взаимоотношения.
Поскольку последние несколько лет в Генштабе я занимался вопросами защиты информации от технических средств разведки, мне, когда я ещё лежал в госпитале, ребята из Гостехкомиссии СССР, с которыми я взаимодействовал по этим вопросам, предложили возглавить эту работу в Министерстве нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, на должности заместителя начальника управления-начальника отдела защиты от технических разведок. Именно так, через тире, называлась моя должность. Я согласился, и осенью 1985 года у меня началась новая, уже гражданская жизнь.
Новая работа была сама по себе интересной, но имела два существенных недостатка.
Первый состоял в том, что основную энергию приходилось затрачивать не на разработку и создание средств и методов защиты, а на то, чтобы убедить директоров предприятий, что это надо делать. Несмотря на грозные руководящие документы, вплоть до постановлений правительства, директора всячески увиливали от внедрения предписанных этими грозными документами средств и мер, так как они в чём-то мешали и требовали затрат определённых ресурсов. Например, ограничивалось применение импортных средств оргтехники (компьютеров, факсов, телефонных аппаратов и т.д.) в то время, как отечественных аналогов или просто не было, или они резко уступали по параметрам и качеству. Кроме того, в требованиях по защите информации было немало перегибов, как по объёму защищаемых сведений, так и по степени перестраховки в их защите. Всё это вместе и порождало у директоров весьма негативное отношение к этой работе. И было не очень-то приятно непрерывно убеждать и принуждать директоров выполнять предписанные меры.
Вторым же недостатком было то, что в нашем Министерстве, как впрочем и в других органах государственного управления, почти постоянно была организационная лихорадка. Она и раньше частенько бывала в аппарате государственного управления, а в этот период “перестройки и ускорения” стала практически непрерывной. Нас то усиливали (управление превратилось в Главк и я стал заместителем начальника Главка), то сокращали (и я превращался в начальника группы). Нам регулярно вручали уведомления об увольнении и потом как бы принимали заново. Работа, правда, от этого не менялась, и я, как я и писал несколькими страницами раньше, сидел всё за тем же столом, в той же комнате и делал ту же работу (как и большинство остальных сотрудников управления). Однако, это как-то нервировало.
Поэтому, когда мне летом 1992 года позвонил Морозов, который к тому времени тоже уволился в запас и работал в связной организации под названием “Коминком”, и предложил перейти к ним, я проявил любопытство. Вообще-то говоря, я не очень серьёзно воспринял это предложение и не намеревался куда-то переходить, но решил всё же посмотреть - а что это такое? Но вот когда посмотрел, мне всё очень понравилось. Мне предложили заниматься беспроводной телефонной связью (предшественницей сотовой связи). Интересная техника, интересная работа, и не надо никого уговаривать. И я согласился. И до сих пор об этом не жалею. Наоборот, думаю - какой бы я был дурак, если бы тогда отказался. Был бы теперь, наверняка, глубоким пенсионером, А сейчас у меня интересная работа (спутниковая связь) и неплохая зарплата, которую нам выплачивают без обычных в наше время задержек на несколько месяцев. Что сейчас очень даже немаловажно, так как жить на одну пенсию в нынешнюю пору не слишком приятно.
Можно было бы сказать, что сейчас всё хорошо, что у моей несколько затянувшейся повести, как у традиционного американского фильма - хэппи-энд. Но! Возраст, здоровье. Тут проблемы.
Первый звонок прозвенел ещё в 1986 году, когда я получил инфаркт. Получил его я, правда, по собственной вине. Катался на виндсерфере в сильный ветер. А техника владения виндсерфером была плохая. Я непрерывно ронял парус в воду, а оторвать пятиметровый парус от воды за короткий шнур, да ещё в сильный ветер - очень нелегко. Мне же пришлось это проделать, наверное, сотню раз - меня унесло от берега, и я долго не мог вернуться. Перегрузил сердце. В результате, когда вернулся, мне “поплохело”. Оказалось - инфаркт. Отлежал месяц в госпитале, потом ещё в санатории. Но кончилось всё неплохо - через год-два я уже не ощущал никаких последствий и спокойно воспринимал немалые физические нагрузки.
Но с природой не поспоришь. Ведь мне уже 70. И сейчас есть более грозные проблемы.
Вскоре после инфаркта, гуляя по лесу в Одинцово, куда мы часто ездили по старой памяти, хотя с 1976 года живём в Москве, я сочинил такое:
|
Был вчера ещё лес зелёным, А сегодня, тихо кружась, Засыпает золото клёнов Опустевших тропинок вязь,
И шуршит, шуршит под ногами, Всё укрывший толстым ковром Рыхлых листьев сухой пергамент Под нагими скелетами крон.
В паутине осенней печали Я бреду сквозь прозрачный лес. Тихо зябнут без тёплой шали Лапы веток под стынью небес.
Всюду мёртвых деревьев туши Засыпает жёлтой листвой. Любопытных вешенок уши Облепили упавший ствол.
И лишь редкая неба просинь Вдруг мелькнёт сквозь рёбра ветвей. Это осень. Да, просто осень И в природе, и в жизни моей. |
Осень. Но это было 15 лет назад. А что сейчас? Зима?
Какой-то неглупый человек сказал: “Старость тоже неплохая пора жизни. Жало только, что и она кончается”. И невольно приходят в голову такие слова:
|
Уходит наше поколение - Людей, родившихся в тридцатых. Вполне нормальное явление, Наш век кончается, ребята.
А жизнь и не заметит - что вы ей! Она идёт и нет конца ей. Планету топчут люди новые, Её по-своему кромсают.
На нас как будто бы похожие, Потомки наши дорогие, Но вижу, ясно вижу всё же я: Они - не мы, они другие.
Другая речь, другие мнения, Другие нравы и одежды, И музыка, и развлечения, И даже беды и надежды.
Закономерность это, может быть, Цивилизации, судьбы ли. Наверное, когда-то тоже мы Такими же “другими” были.
Ну, что же, мы прошли дистанцию, Свой факел пронесли по свету, И здесь, вблизи конечной станции, Передадим им эстафету. |
10 января 2001 г.
(немного дополнено в феврале 2005 г.)